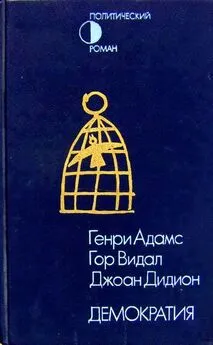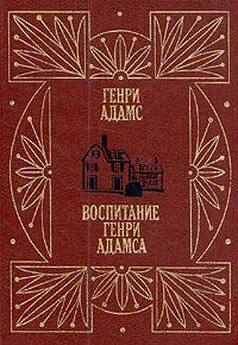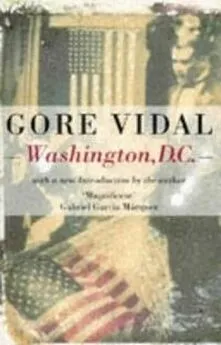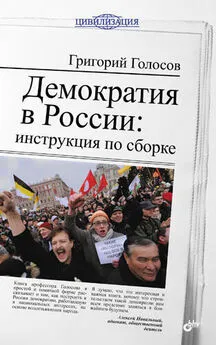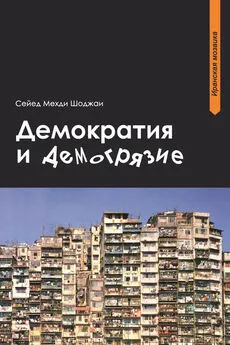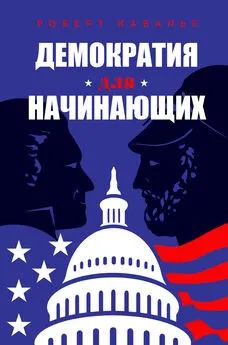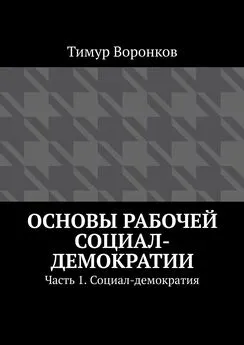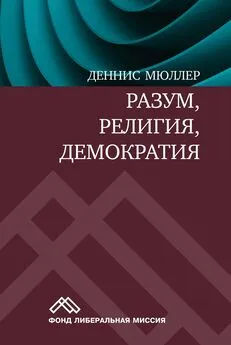Генри Адамс - Демократия. Вашингтон, округ Колумбия. Демократия
- Название:Демократия. Вашингтон, округ Колумбия. Демократия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1989
- Город:М.:
- ISBN:5-01-001577
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Генри Адамс - Демократия. Вашингтон, округ Колумбия. Демократия краткое содержание
В сборнике «Демократия» представлены романы американских писателей Генри Адамса, Гора Видала и Джоан Дидион, объединенных общностью темы и авторского отношения к изображаемым явлениям. «Демократия» Г. Адамса (1880) стоит у истоков жанра «политического романа» в литературе США, тему падения политических нравов продолжают романы современных писателей «Вашингтон, округ Колумбия» Г. Видала (1967) и «Демократия» (1984) Дж. Дидион, где дается обстоятельный анализ американских «коридоров власти».
Рекомендуется широкому кругу читателей.
Демократия. Вашингтон, округ Колумбия. Демократия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как избежать коррупции, то есть того всесилия бюрократического аппарата, что с неизбежностью порождает взяточничество и прочие аморальные поступки в качестве своего рода «ответной» или «защитной» реакции со стороны вконец отчаявшейся общественности? Ответ на этот наболевший вопрос, исходящий от одного из «блестящих умов» американской столицы Натана Гора, лишь немногим отличается от знаменитой и уже несколько примелькавшейся сентенции, приписываемой Уинстону Черчиллю. «Я верю в демократию, — изрекает он, — потому что эта форма правления, как мне представляется, есть неизбежное следствие всех иных, бывших до нее… Я допускаю, что демократия — всего-навсего эксперимент, но это единственный путь, по которому обществу стоит идти, единственная концепция его функций, достаточно широкая, чтобы удовлетворить ее стремления, единственный результат, который стоит усилий и риска».
То, что для «стороннего наблюдателя» Н. Гора существует в виде «бесконечных величин» чистой теории, наиболее ответственные из вашингтонских политиков стремятся воплотить на практике. Напуская туману в обществе восторженно внимающих их излияниям дам, они иногда готовы утверждать, что любят власть ради самой власти и лишь поэтому домогаются поста президента. Но ведь в отличие от деспотических режимов власть американских президентов, особенно в XIX веке, была в известной степени номинальной. Главная цель политиков благонамеренного склада неизменно состояла в ином — стоять на страже демократических принципов, ограждать их от посягательств как вдохновляемых той или иной утопической идеей фанатиков, так и обыкновенных проходимцев, стремящихся на высшие должности лишь для того, чтобы беспрепятственно залезть в общественный карман.
К числу руководимых высокой идеей альтруистов трудно, однако, отнести сенатора Рэтклифа, чей образ занимает видное место на авансцене книги Адамса. Отмечая в Рэтклифе изрядный практический ум и сильную волю, писатель вместе с тем ставит под сомнение его этическую позицию. Признавать за сенатором, как на этом настаивают некоторые из его противников, «слепое невежество по части нравственных законов» было бы слишком опрометчиво, и все же по мере развертывания действия в морали Колосса Прерий (так называют его в Вашингтоне) обнаруживается все больше и больше изъянов.
В глазах предубежденно настроенного болгарского посланника барона Якоби Рэтклиф с самого начала являл собой «тип деятеля, сочетавшего крайнюю самоуверенность и деспотичность с чрезвычайно узкой образованностью и низменным личным опытом». Последнее, впрочем, вряд ли можно поставить в вину выходцу из «бревенчатой хижины» в штате Иллинойс, где полтора столетия тому назад условия для развития высокой культуры, конечно же, во многом уступали даже европейским окраинам. Что из того, если Рэтклиф путает Мольера с Вольтером, не владеет языками и нетверд в хронологии исторических событий. Гораздо большую угрозу таит в себе другая черта личности сенатора, определяющая его позицию при решении важных вопросов в конгрессе, — его верность узкопартийным интересам, вступающим, согласно мысли автора романа, в противоречие с высшими идеалами и целями, которыми должна руководствоваться американская нация.
Именуя посланника Якоби «неуязвимым циником из XVIII века», писатель делал акцент скорее на эпитете и обстоятельстве времени, нежели на центральном понятии в этом словосочетании. Неуязвимость логики престарелого аристократа, успевшего в ранней молодости впитать в себя отголоски великих идей, состоит в том, что он исходит из тех самых понятий и представлений, которым в наши дни в России конца XX века вновь возвращается право именоваться «истинными», «вечными», «общечеловеческими». Партийную систему, которая в своем крайнем выражении подменяет принцип всеобщности принципом партикуляризма, или, иначе говоря, разобщенности, Якоби справедливо считает подобием религиозного раскола, неоднократно приводившего в прошлом к самым гибельным последствиям. Однако, задержавшись одной ногой в XVIII столетии и твердо предпочитая Европу «варварским» Соединенным Штатам, он не в состоянии уразуметь главного в американском политическом опыте, того, о чем за несколько десятилетий до изображенных в романе событий красноречиво писал другой европеец, француз де Токвиль, — изначально присущей демократии способности к саморегулированию и самосовершенствованию.
К сожалению, высоким и сложным материям нет места в политическом мирке Вашингтона, каким он предстает в изображении Г. Адамса. Хитросплетения сделок и интриг, которыми сенатор Рэтклиф пытается связать свободу действий нового президента, выглядят на современный взгляд довольно-таки наивными. Где тонко, там и рвется, и Рэтклиф сам чуть не увязает в сплетенной им паутине ложных ходов, двусмысленных обещаний и тому подобных экивоков. Однако президент устоял, как устояла перед аналогичной атакой и миссис Ли, скорее интуицией, нежели рассудком, распознавшая всю «этическую пустотелость» своего настойчивого поклонника.
Вряд ли есть необходимость заострять читательское внимание на тех несообразностях, которыми изобилует собственно событийная, «внутриполитическая» канва произведения. Психологических натяжек в тексте «Демократии» еще больше, поскольку исследования диалектики души и последовательности мысли чаще всего подменяются у Адамса декларативной риторикой. Но, разумеется, американского прозаика извиняет хотя бы то, что им писался фактически не роман, а беллетризованный памфлет и основную свою цель автор видел (вслед за целой плеядой своих предшественников, включая Т. Мора, Дж. Свифта, Дж. Ф. Купера) не в передаче «самодвижения жизни», а в том, чтобы в первую очередь дать выход собственным острокритичным эмоциям.
Всю меру язвительности авторских инвектив, обращенных против сословия государственных мужей, примкнуть к которому Г. Адамс безуспешно стремился на протяжении многих лет своей жизни, выдает его, казалось бы, случайное замечание, отождествляющее участие в политической жизни с отбыванием срока в каторжной тюрьме. Отличительными качествами сенаторов и конгрессменов он считает «дурные манеры и дурную нравственность», но еще более уничижительной оценки удостаиваются в книге новоиспеченный президент («эта деревенщина из индианского захолустья») и его супруга. Если воспринимать ироническое комментирование Адамсом государственного механизма США по критериям, прилагаемым к полноценным социально-психологическим произведениям, значительная часть его обвинений, несомненно, повиснет в воздухе. Но писатель и сам сознавал намеренную заостренность и полемичность основных положений своей книги. Рисуя удручающую картину того, «с каким скрипом крутится политическая машина, обдавая грязью все вокруг», он вместе с тем отдавал себе отчет в том, что «под пеной, всплывающей на поверхность политического океана, существуют здоровые течения с благородным руслом, которые смывают эту пену и поддерживают чистоту во всей толще воды».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: