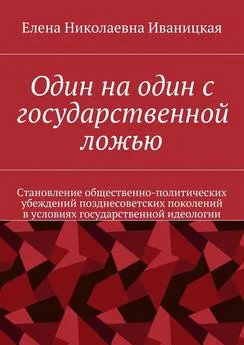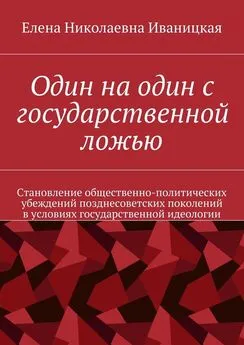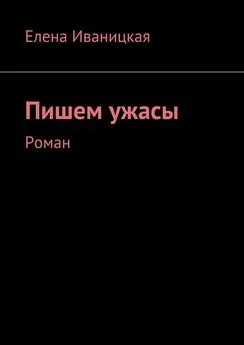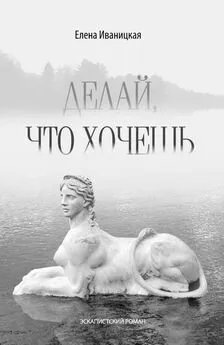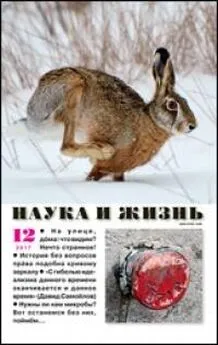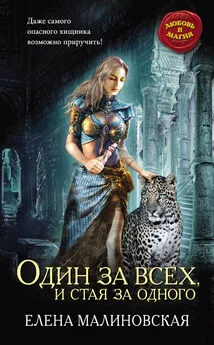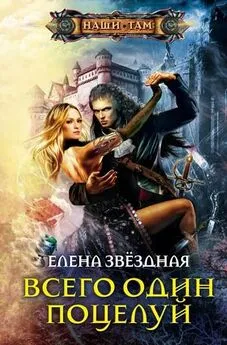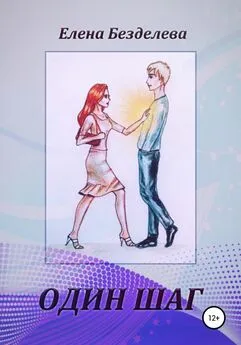Елена Иваницкая - Один на один с государственной ложью
- Название:Один на один с государственной ложью
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентРидеро78ecf724-fc53-11e3-871d-0025905a0812
- Год:2016
- ISBN:9785448355875
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Иваницкая - Один на один с государственной ложью краткое содержание
Каким образом у детей позднесоветских поколений появлялось понимание, в каком мире они живут? Реальный мир и пропагандистское «инобытие» – как они соотносились в сознании ребенка? Как родители внушали детям, что говорить и думать опасно, что «от нас ничего не зависит»? Эти установки полностью противоречили объявленным целям коммунистического воспитания, но именно директивы конформизма и страха внушались и воспринимались с подавляющей эффективностью. Результаты мы видим и сегодня.
Один на один с государственной ложью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Леонид Лопатин в своих откровенных и глубоких воспоминаниях (тираж 350 экземпляров) себя не щадит: «Став учителем истории в 1966 г. и членом КПСС в 1968 г., я сам участвовал в формировании такого образа жизни. Ах, как же на своих уроках я возвеличивал Октябрьскую революцию! Разве не я врал детям о свободном творческом труде при социализме, скрывая от них принудительный труд колхозников, спецпереселенцев, трудармейцев, завербованных, да и просто рабочих, вынужденных трудиться за паек и унизительно низкую зарплату. Не является утешением и то, что делал это искренне. <���…> При каждой теме по советской истории выливал своим школьникам, а с 1969 г. студентам мединститута столько вранья и идеологической глупости, что стыд за себя не прошел до сих пор. Если бы по юношескому недомыслию я врал только на уроках!» (Леонид Лопатин. Советское образование и воспитание. Политика и идеология в 55-летних наблюдениях школьника. Студента, учителя. Профессора. Ничего личного. —Кемерово: Издательство КемГУКИ, 2010, с. 14, 15). Увы, не только. Молодой педагог хотел быть откровенным с детьми, и ученики ему доверяли. Поэтому в совхозе на сельхозработах («на картошке»), увидев реальное состояние хозяйства и реальную жизнь села, дети спросили об этом учителя. А он, сельский уроженец, прекрасно знавший, что они видят типичное положение дел, заговорил про отдельные недостатки в отдельном совхозе. «Разве не в чем каяться учителям и родителям, внушавшим детям такое извращенное представление о советской действительности?» (с. 131).
В понимании роли родителей я не вполне согласна с Леонидом Лопатиным. Сами родители редко внушали детям извращенные представления о советской жизни, хотя не препятствовали школе обрабатывать детей. Родители внушали детям другое – чувства опасности и тревоги. Некоторые бессознательно, потому что сами жили с этими чувствами, некоторые сознательно, потому что наивная вера в нашу счастливую жизнь была небезопасна для ребенка и ее следовало подправить прививкой опасливой настороженности. Но эти чувства не полагалось проявлять, ибо советские дети были счастливы по определению. По моему опыту, счастье было неприятным долгом и тяжким грузом, потому что нашим счастьем нас постоянно попрекали в школе.
Конечно, и учителя, и семья были в очень трудном положении. Учителя лгали, родители молчали, но и те и другие должны были привить детям « гарантии нравственности – сегодняшней и завтрашней ».
Дети, тем более маленькие, политикой и политическими фигурами не интересуются вовсе. Исследования постсоветских дошкольников подтверждали это и в девяностые, и в нулевые годы – вот, например, коллективная монография «Из жизни детей людей дошкольного возраста. Дети в изменяющемся мире» (СПб.: Алетейя, 2001). Но советских детей с самых малых лет настойчиво обязывали следить за политикой и любить определенных политических персон. Сознание советского человека с раннего детства формировали разорванным. Резкая граница, «недоступная черта» проходила между разными зонами жизни. Одна зона считалась самой важной, сакральной , но была и самой опасной. Там действовали особые нормы поведения. В ней нельзя было думать, а можно было только повторять заученные слова и жесты. Эта зона была по видимости всепроникающей – портреты Ленина висели даже в детских садиках. Но думать о ней, говорить о ней тоже не полагалось, поэтому она была выключена из жизни, элиминирована. Она была всегда и повсюду, но «недоступная черта» отчеркивала ее и перечеркивала, поэтому ее как бы и не было. По одну сторону границы, разделяющей зоны, – бесконечное официальное мертвоговорение, по другую – молчание и уклончивость в семье. Советский образ жизни искажал или разрушал самые интимные и глубокие отношения между детьми и родителями. Психолог Виктор Коган прослеживал этот процесс в давней уже статье «Тоталитарное сознание и ребенок: семейное воспитание»: «Язык двоемыслия, освоенный взрослыми, но трудный и для них, недоступен ребенку, из-за чего он то и дело попадает впросак, навлекая на себя родительский гнев. Если же этот язык и осваивается, то страдают семейные связи, ибо у ребенка самоопределение в семье вытесняется раздвоенностью его личного и семейного Я» (Вопросы психологии. 1992, №1—2, с. 20).
Чтобы обезопасить ребенка перед идеологией и государством, родители жертвовали в отношениях с ним искренностью и доверительностью. Мемуаристы горестно об этом свидетельствуют: «С родителями у большинства из нас особой задушевности не получалось. Может быть, потому, что и они своими родителями не были приучены разговаривать. Это объяснимо: слишком многое поколениям советских людей приходилось друг от друга скрывать. В массе своей это были молчащие поколения. Именно так недавно сказали о себе несколько моих знакомых стариков. Этот последовательный „заговор молчания“ стал причиной „провалов в памяти“ и следующих поколений» (Школа жизни, с. 39).
§6. Движение к реальности
Изучение идейного развития познесоветских поколений в их реальном взаимодействии с государственной идеологической обработкой началось, по сути, только в новом веке. Предполагаю, что долгое время объективному исследованию препятствовала травматичность болезненного и унизительного опыта, пережитого в детстве и юности нами всеми.
Психолог Галина Орлова, изучавшая советскую борьбу за мир как одну из дискурсивных доминант брежневской эпохи, расспрашивала об этом «детей семидесятых» и обнаружила у своих собеседников немалые трудности при воспоминаниях о том времени: «Память о реалиях и личном участии в слишком советской, а потому стигматизированной практике вызывает ощутимый дискомфорт, тревогу, несет угрозу новым способам конструирования идентичности. Средства для выражения этого неудобного опыта в современной ситуации фактически отсутствуют. За неловким молчанием, окружающим полноту былой принадлежности к советскому, различимы очертания культурной травмы» (Галина Орлова. Неприкосновенный запас, 2007, №54. https://goo.gl/fPX9d1).
Я не соглашусь с Галиной Орловой только в одном: полнота принадлежности к советскому тоже, по-моему, нуждается в прояснении.
В предисловии к сборнику «Школа жизни» Дмитрий Быков признается: «Я отлично помню свой школьный опыт, он был отвратителен, поскольку двойная мораль уже свирепствовала, и травля, столь ярко и страшно показанная Железниковым и Быковым в «Чучеле», была уделом всех думающих детей. <���…> Лично для меня попытка реконструкции тех времен довольно мучительна, но и мне есть за что поблагодарить их (времена)» (с. 7).
Всякий думающий человек, ребенок или взрослый, находился в унизительном и опасном положении, вынужденный подлаживаться к идеологическому вранью и сознавая себя винтиком, заложником и обманщиком. А я все-таки исхожу из того, что думающие люди составляли большинство населения. « Такую войну с такими лагерями по простоте душевной не проходят » – я разделяю этот вывод, сделанный замечательным писателем Борисом Крячко в романе «Места далекие, края-люди не здешние» (Дружба народов, 2000, №1, 2000, с. 88).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: