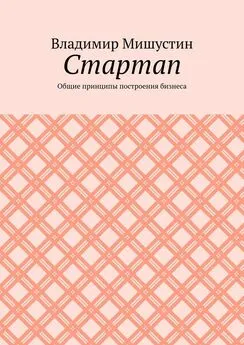Виолетта Гайденко - Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении
- Название:Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1989
- Город:М.
- ISBN:5-02-007958-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виолетта Гайденко - Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении краткое содержание
В книге на фоне широкого социокультурного контекста раскрывается процесс становления и развития научного знания в средние века. Подробно анализируется формирование стиля научного мышления, показывается преемственность науки средневековья и нового времени.
Для специалистов в области истории науки и культуры, логики и методологии научного познания.
Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о движении - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Именно принцип тождества определяет стиль античного и средневекового мышления, обусловливает его коренное отличие от стиля мышления, ставшего господствующим в новое время.
Но почему этот принцип был для античности и средневековья столь же естественным принципом мышления, каким для нового времени является принцип отношения? От чего зависит выбор одного из этих принципов? Если ответить на эти вопросы, суть схоластического метода станет гораздо более понятной.
2.3. Естественная онтология и теоретическая онтология
Прежде всего необходимо уяснить смысл онтологических построений античных мыслителей. Если цель онтологических изысканий — познание реального мира, то как мог принцип тождества выполнять функции объясняющего начала? Нет ничего более чуждого реальному миру, чем неизменное, неразличимое единство. Должны ли мы рассматривать принятие этого принципа как свидетельство заблуждения или онтологические исследования древних имели какой-то иной смысл?
Здесь прежде всего следует различать два типа онтологии: «естественную» и теоретическую. «Естественная» онтология — это попытка создать картину мира на основе естественного языка, с использованием всего многообразного арсенала выразительных средств, присущих этому языку. Гибкость естественного языка, его поразительная способность служить посредником в выражении диаметрально различных точек зрения явились питательной почвой для появления столь различных натурфилософских систем досократиков. Картины мира, запечатленные милетцами, Гераклитом, Эмпедоклом, не похожи друг на друга, но есть одна черта, которая их роднит, — это то, что они в принципе не поддаются однозначному истолкованию — каждое изречение древних натурфилософов высвечивает содержание, переливающееся многими (часто неуловимыми) оттенками смысла, так что ограничение этого содержания каким-либо одним четко сформулированным значением неизбежно оказывается неадекватным, обедняет и искажает мысль древнего философа.
Другой тип онтологии, назовем его теоретическим, впервые в развернутой форме представлен в диалогах Платона, опиравшегося на методы философствования, намеченные пифагорейцами, элеатами и Сократом. Основная особенность, отличающая теоретическую онтологию, — это стремление к максимально четкой, недвусмысленной, однозначной фиксации содержания.
Как же достигалась однозначность? На первый взгляд кажется (и это мнение является общепринятым), что понятийная строгость возникает на базе естественного языка; употребляемым словам придается точный и по возможности единственный смысл, из многообразия значений, ассоциирующихся с некоторым словом, выбирается одно, — все остальные или отбрасываются, или им присваиваются иные, отличные имена. Иначе говоря, работа по уточнению понятий, приводящая к превращению слов естественного языка в термины, понятия языка теоретического, представляется как работа над содержанием.
Но можно ли в принципе достичь теоретической строгости понятий, вводя ограничения на их содержание? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо, хотя бы в самых общих чертах, наметить, в чем, собственно, состоит отличие теоретического языка от языка естественного, где проходит граница между «естественным» знанием, т. е. знанием, воплощенным в естественном языке, и теоретическим.
Самая характерная особенность естественного языка — это предметный характер фиксируемого им содержания. Произнося какое-либо слово, мы указываем нечто, некую реальность, которая ассоциируется с данным словом. Будучи значением слова, эта реальность предстает как самостоятельное, замкнутое в самом себе образование, совершенно независимое от субъекта и в то же время полностью ему доступное. Воспринимая слово, субъект как бы видит независимо существующую реальность, непосредственно соприкасается с ней.
Вообще говоря, такое ощущение непосредственного контакта с предметной реальностью, возникающее всякий раз у человека, коль скоро он прибегает к помощи естественного языка, является, безусловно, иллюзорным. Любой контакт, любое познание независимой реальности, как мы знаем со времен Канта, опосредованы деятельностью субъекта, невозможны без нее, но естественный язык совершенно не фиксирует те познавательные акты, которые должен совершить познающий субъект, чтобы осознать то или иное содержание, — он регистрирует только результат познавательного процесса.
Теперь мы можем ответить на вопрос: может ли привести работа по анализу содержания, зафиксированного средствами естественного языка, к превращению его в теоретически оформленное содержание, отличающееся однозначным и общезначимым характером своих компонентов? Очевидно, что теоретическая строгость недостижима, коль скоро мы остаемся на уровне естественного языка, на уровне «естественного» сознания: до тех пор, пока мы не будем отдавать отчет, какие именно познавательные акты мы производим, образуя то или иное представление, пока мы будем иметь дело с предметным содержанием, вырванным из контекста познавательной деятельности, мы окажемся неспособными зафиксировать именно «это», а не другое содержание в качестве значения данного слова. Нефиксированный, бессознательный характер познавательной деятельности служит неодолимым препятствием на пути к идеалу строгого и общезначимого знания.
Теоретическое знание возможно лишь при том условии, если мы перейдем с уровня «естественного» сознания, пользующегося естественным языком, на иной, теоретический, уровень сознания с присущей этому уровню концентрацией внимания на операциях, совершаемых субъектом познания. Теоретическому познанию соответствует теоретический язык, знаки которого в первую очередь фиксируют характеристики познавательных актов.
2.4. Античная и средневековая теоретическая онтология как результат созерцательной установки сознания
Первая система теоретического знания возникает в тот момент, когда Платон формулирует условия, которым должен удовлетворять человек, стремящийся достичь подлинного знания. Платон утверждает, что единственный путь, ведущий к такому знанию — знанию идей, — это путь созерцания, пассивного восприятия, а не путь действия. Здесь важно подчеркнуть, что подлинное знание, по Платону, — это знание, отличающееся абсолютной определенностью своего содержания.
По существу, Платон исследует вопрос об основаниях теоретического знания: как, на основе каких познавательных актов человек может достичь знания, неотъемлемой чертой которого является строгая и ясная определенность? Он формулирует один из возможных ответов на этот вопрос, указывая, что искать такое знание следует в сфере восприятия [42].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:






![Кирилл Кобрин - Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии]](/books/1097243/kirill-kobrin-srednie-veka-ocherki-o-granicah-ide.webp)