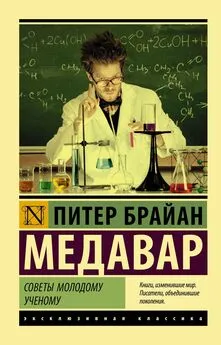Питер Медавар - Наука о живом
- Название:Наука о живом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мир
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Питер Медавар - Наука о живом краткое содержание
Научно-популярная книга, одним из авторов которой является лауреат Нобелевской премии, английский ученый Питер Медавар, посвящена наиболее фундаментальным и представляющим всеобщий интерес проблемам современной биологии.
Авторы сочетают высокий научный уровень с увлекательным и ясным стилем изложения. Книга рассчитана на интересующихся современными проблемами биологии, а также на специалистов — биологов, психологов, социологов и философов.
Наука о живом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако это доказательство существования Общего Плана убеждает лишь тех, кто уже тверд в своей вере и не нуждается ни в каких доказательствах. Оно и к лучшему, ибо распространение ДНК не несет в себе никакого теологического утешения, а обращаться за таким утешением к эволюции особого смысла не имеет: в «бухгалтерской книге» эволюции колонка дебета настолько разбухла от всей той крови и страданий, которые неотъемлемы от естественных процессов, что никакие бухгалтерские ухищрения не способны {189} придать этой сделке видимость нравственной платежеспособности, если принять те нормы нравственности, к каким привыкли люди.
Но мрачные отрицания генетиков могут потрясти веру верующих не более, чем ее могло утвердить снисходительное одобрение отдельных физиков-теоретиков, ибо вера покоится на совсем иных основаниях, столь же незыблемых для тех, кто их придерживается, как если бы она была доказана с помощью логических рассуждений*.
Глава 24 Великий дилетант
Люди часто задумываются над проблемой, способен ли человек к дальнейшей эволюции. Если оставить в стороне вопрос о том, произойдет или нет такая эволюция в действительности, ответ возможен только один: да. Человек представляет собой огромный резервуар врожденных различий, а открытая — так сказать, «дикого типа» — система размножения дает ему возможность полностью использовать эти различия. Он не связан такой крайней специализацией, как, скажем, вытянутая морда муравьеда или ловчий аппарат росянок, — специализацией, которая обрекла бы его на строго определенный образ жизни. Собственно говоря, с эволюционной точки зрения человек — величайший дилетант среди животных. Животное — всего лишь профессионал, обреченный своим строением или функциями на рабство, вырваться из которого оно не может.
Однако весьма маловероятно, что в ближайшем будущем на Земле произойдет какое-либо кардинальное эволюционное изменение. И тем не менее при всей маловероятности кардинальных эволюционных изменений отнюдь не исключены мелкие систематические изменения в частоте проявления генов (имеющие эволюционный характер) — ведь век пандемий, возможно, еще не завершился. Какие-то вирусы, до сих пор жившие с человеком в уютном симбиозе, могут в мутантной своей форме стать патогенными, а в этом случае различия в наборе генов способны оказать огромное воздействие на нашу уязвимость, и сам набор генов соответственно изменится. Возможны также изменения в темпе старения: по мере того как жизнь все удлиняется за пределы возраста размножения или по мере того как возраст размножения все снижается, {191} давление естественного отбора на поздно проявляющиеся вредные гены будет прогрессивно уменьшаться и любые связанные с ним проявления старения будут все глубже укореняться в человеческой популяции; этот эффект будет становиться все более заметным, поскольку хронологический возраст, в котором люди признают, что они уже в годах, т. е. признаках себя пожилыми, будет увеличиваться и увеличиваться.
Причины, по которым мы считаем, что никакого кардинального эволюционного изменения не произойдет, носят двоякий характер. Во-первых, для проведения любого искусственного отбора на протяжении многих поколений потребовалась бы опора в виде правления длиннейшей династии тиранов, и, хотя подобную династию еще можно вообразить, столь последовательная политика совершенно невообразима. Во-вторых, обычная, или эндосоматическая, эволюция (см. гл. 6) больше уже не является ведущим моментом в обеспечении «приспособленности» внутри человеческой популяции.
Некий студент-медик однажды спросил, могут ли развиться у людей крылья, которые обеспечили бы им возможность летать. Вопрос этот запомнился главным образом потому, что студент вынужден был повысить голос, чтобы перекричать шум пролетавшего над зданием самолета, — очень глупый вопрос, поскольку совершенно очевидно, что люди уже обрели некоторые способности, характерные как для птиц, так и для рыб, обрели их благодаря особой, свойственной только им эволюции — «экзосоматической».
Дальнейшие перспективы человечества принципиально отличаются от перспектив любых других существ.
Мы уже объяснили, что многие щепетильные биологи, указывая на намеренность или внешнюю целенаправленность поведенческой характеристики живых существ, предпочитают использовать уклончивое выражение «телеономия» там, где Аристотель употребил бы термин «телеология».
Когда речь идет о людях, такие терминологические тонкости не нужны. И в хорошем, и в дурном человеческое поведение целенаправленно: мы что-то делаем потому, что таково наше намерение, или же нам не удается что-то сделать вопреки нашим намерениям. {192} Человеческое поведение может быть истинно целенаправленным, ибо лишь люди руководствуются в своем поведении знанием того, что происходило до их рождения, и предположениями о том, что может произойти после их смерти. Таким образом, одни лишь люди находят свой путь при свете, озаряющем не только тот клочок земли, на котором они стоят.
Аргумент, что люди не выживут, поскольку не выжило большинство других животных, крайне неубедителен: от всех остальных животных нас кардинальным образом отличает возможность следовать добрым намерениям. Умалять нравственные ценности на том основании, что они развились постольку, поскольку способствовали выживанию, вовсе не значит выдвигать веский контраргумент: способствовать выживанию — это и есть важнейшее их качество.
Начиная с самых первых лет XVII века человеческая мысль еще ни разу не омрачалась в такой степени ожиданием гибели*. Современные люди, поддаваясь апокалиптическим настроениям, предсказывают время, когда теснота популяции станет невыносимой, когда алчность и слепое себялюбие настолько изуродуют среду обитания, что жизнь человека вновь станет одинокой, убогой и короткой, когда соперничество между нациями приведет торговлю и все другие международные связи к мертвому застою…
Когда уснет последний порт морской
Над задремавшей навсегда водой,
И обретут влюбленные покой,
И вспыхнет снова шар Земли звездой…
Дж. Э. Флекер*
Мы же, наоборот, не верим, что человечество не в силах предотвратить любую грозящую ему опасность или что какие-либо из его нынешних бед непоправимы. Нелогично трепетать перед хаосом, который могут создать развивающиеся наука и техника, реализуя бэконовскую мечту об «осуществлении всего, что можно осуществить», и в то же время исключать из «всего, что можно осуществить» открытие противоядия против побочных вредных эффектов такого развития. {193} В поисках противоядий люди кидаются к науке, а потом разочарованно отворачиваются — отчасти потому, что не понимают сущности проблемы, а отчасти потому, что слишком привыкли видеть в науке и технике чудотворную силу в буквальном смысле слова. Однако подавляющее большинство стоящих перед человечеством проблем требует в первую очередь не научного, а политического, нравственного или просто административного решения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
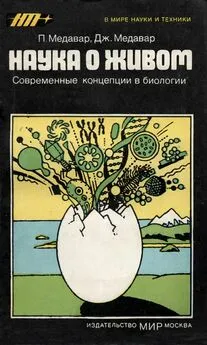


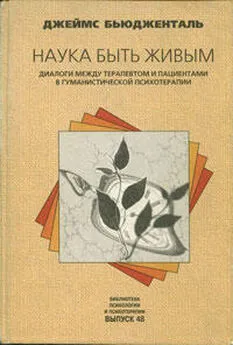

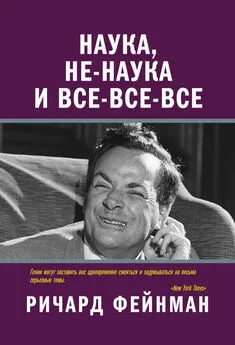
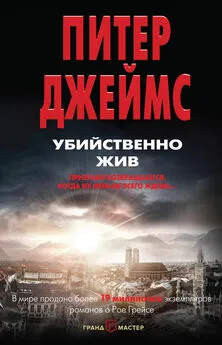
![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 04 (11)](/books/1061248/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)
![Питер Брайан Медавар - Советы молодому ученому [litres]](/books/1068054/piter-brajan-medavar-sovety-molodomu-uchenomu-litr.webp)