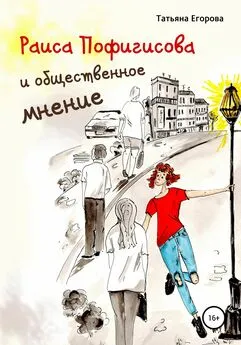Габриэль Тард - Общественное мнение и толпа
- Название:Общественное мнение и толпа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-134422-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Габриэль Тард - Общественное мнение и толпа краткое содержание
«Общественное мнение и толпа» – книга, впервые опубликованная Тардом еще в 1892 г., но не утратившая актуальности и в наши дни, одно из основополагающих произведений теории массовой коммуникации. В ней ученый рассуждает на тему «публики» как высшей формы толпы – косной и легковерной массы, недолговечной и зависимой от своего вождя.
Публика тоже зависима, однако уже от средств массовой информации, последовательно формирующих ее мнение, объединена общностью суждений (внушенных ей извне, при помощи все тех же средств массовой информации) и склонна к новизне. Она более замкнута социально, нежели толпа, более терпима к чужому мнению. Однако достаточно грамотно проманипулировать ее мнением, чтобы публика вновь обратилась в разрушительную толпу… В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Общественное мнение и толпа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как с интеллектуальной, так и с других точек зрения необходимо установить заметные отличительные признаки между разными формами социальных группировок. Не станем останавливаться на тех, которые заключаются просто в материальном сближении. Прохожие на многолюдной улице, путешественники, сошедшиеся, даже густо набившиеся на пакетботе, в вагоне, за табльдотом, молчащие или не связанные общим разговором, группируются физически, а не в общественном смысле слова. То же сказал бы я о крестьянах, скопившихся на ярмарке, пока они ограничиваются только заключением торговых сделок между собою, они преследуют каждый в отдельности свои различные, хотя исходные, цели, не устраивают коопераций для одного общего дела. Все, что можно сказать о них, – это то, что они носят в себе способность к социальному группированию в той мере, в какой их предрасполагает к более или менее тесному, в случае надобности, соединению сходство языка, национальности, религии, класса, воспитания, всякое сходство социального происхождения, т. е. всякое сходство, обусловленное распространением через подражание какого-нибудь элемента, исходящего от первого изобретателя, анонимного или известного. Стоит, чтобы произошел на улице динамитный взрыв, стоит, чтобы возникла опасность крушения судна или поезда, чтобы вспыхнул пожар в отеле, распространилась на ярмарке какая-нибудь клевета против заподозренного барышника, – и тотчас же эти способные к ассоциированию индивидуумы соединяются для стремления к общей цели под давлением общего возбуждения.
Тогда сама собою рождается первая ступень ассоциации, которую мы называем толпой. Через ряд посредствующих ступеней от этого примитивного агрегата, летучего и аморфного, мы поднимаемся к толпе организованной, имеющей иерархическое разделение, продолжительную и регулярную жизнь, словом, к той толпе, которую мы называем корпорацией в самом широком смысле этого слова. Самое широкое выражение той и другой – церковь и государство. Заметим даже, что церкви и государства, религии и нации в периоды своего сильного роста всегда имеют тенденцию осуществить корпоративный тип, монастырский или полковой, к счастью, никогда не достигая его вполне. Их историческая жизнь проходит в том, что они раскачиваются между тем и другим типом, дают попеременно то идею огромной толпы, как варварские государства, то идею великой корпорации, как Франция эпохи Людовика Святого. Это же происходило с тем, что называлось корпорациями при старом режиме; в обычное время они были корпорациями в гораздо меньшей степени, чем рабочие федерации, эти действительные маленькие корпорации, властно управляемые, каждая в отдельности, своим главой. Но когда общая опасность собирает вместе всех рабочих одной промышленной отрасли для общей цели, такой, например, как выигрыш процесса, тогда, вроде того как это бывает с гражданами одной нации во время войны, федеративная связь немедленно скрепляется, и вперед пробивается одно правящее лицо. В промежутке между моментом этой совместной единодушной работы деятельность ассоциации среди соединенных рабочих ограничивается преследованием какого-нибудь экономического или эстетического идеала; точно так же, как в промежутке между войнами вся национальная жизнь граждан сводится к заботе об известном патриотическом идеале. Coвременная нация, благодаря продолжительному влиянию эгалитарных идей, имеет тенденцию снова стать большой сложной толпой, которую направляют, в большей или меньшей степени, национальные или местные вожаки.
Но потребность в иерархическом строе среди разросшихся обществ стала до того сильна, что по мере их демократизации, как это ни странно, им порою все более и более приходится принимать военную организацию, укреплять, усовершенствовать и расширять ту по преимуществу иepaрхическую и аристократическую организацию, которая называется армией, не говоря уже об администрации, этой второй огромной армии; и этим путем они, быть может, готовятся по миновании воинственного периода, под эгидой мира, промышленности, науки и искусства, облачиться в корпоративную оболочку, чтобы стать огромной мастерской.
Между двумя указанными крайними полюсами можно поместить некоторые группы, имеющие временный характер; но их состав набирается по установленным правилам, или они подчинены известному краткому уставу. Сюда относятся: суд присяжных, некоторые обычные собрания, преследующие цели удовольствия, литературные салоны XVIII в., Версальский двор, театральная аудитория, которая, несмотря на несерьезный характер своей цели и своего общего интереса, связана строгим этикетом, имеет определенный иерархический строй с различием мест; сюда относятся, наконец, литературные и ученые общества, академии, которые являются скорее собраниями взаимно обменивающихся талантов, чем группами вместе занимающихся работников. К разновидностям корпорации мы причисляем членов заговора и так часто встречающиеся преступные секты. Парламентские собрания занимают особое место; это скорее сложные и противоречивые толпы, толпы, так сказать, двойственные – двуглавые, как говорят, чудовища, – где с беспорядочным большинством борются одна или несколько составивших коалицию групп меньшинства и где вследствие этого, по счастью, нейтрализуется до известной степени зло единодушия, эта великая опасность, присущая толпам.
Но в форме ли толпы или корпорации, всякая настоящая ассоциация в одном отношении всегда сохраняет одинаковый характер: ее всегда в большей или меньшей степени создает и ведет вождь, явный или сокрытый; он довольно часто скрыт от нас, когда дело идет о толпах; он всегда заметен и бросается в глаза, когда мы имеем дело с корпорациями. С момента, когда масса людей начинает трепетать общим трепетом, одушевляется и идет к своей цели, можно утверждать, что какой-нибудь вдохновитель или вожак, или группа таких вдохновителей, вожаков, среди которых один является активным ферментом, вдохнули в эту толпу свою душу, вдруг ставшую грандиозной, искаженной, чудовищной; и сам вдохновитель нередко первый бывает поражен и охвачен ужасом. Подобно тому как всякая мастерская имеет своего руководителя, всякий монастырь – своего настоятеля, всякий полк – своего командира, всякое собрание – своего председателя, или, вернее, всякая фракция собрания – своего лидера , точно так же всякий оживленный салон имеет своего корифея в разговоре, всякий мятеж – своего вождя, всякий двор – своего короля, или князя, или князька, всякая клака – начальника клаки. Если театральная аудитория имеет до известной степени право считаться чем-то вроде ассоциации, то это именно тогда, когда она аплодирует, потому что она подчиняется толчку, который дан первым хлопком, являясь отражением этого импульса, а также тогда, когда она слушает, потому что она подчиняется внушению автора, выраженному устами говорящего актера. Таким образом, везде, явное или скрытое, царит различие между вожаком и ведомыми , различие, столь важное в вопросе об ответственности. Это не значит, что воля всех исчезла перед волей одного; эта последняя – она, впрочем, также внушена, она – эхо внешних и внутренних голосов, по отношению к которым она служит только сгущенным и первым выражением, – для того, чтоб импонировать другим, должна делать им уступки и льстить им для того, чтобы вести их. Так бывает с оратором, который не упустит случая принять меры ораторского искусства, с драматическим автором, который должен всегда уступать предубеждениям и меняющимся вкусам своих слушателей, с лидером, который должен ладить с своей партией, даже с тем же Людовиком XIV, который поневоле сообразуется с своими придворными.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


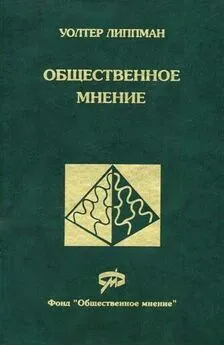
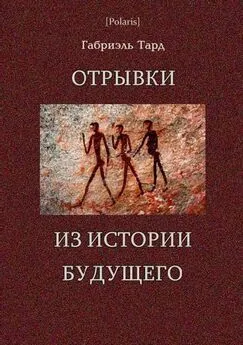
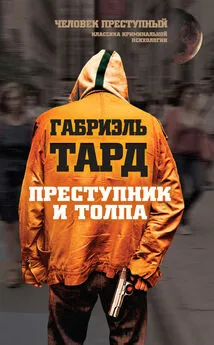

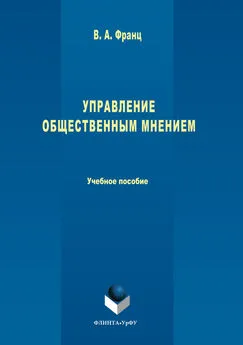
![Элизабет Ноэль-Нойман - Общественное мнение [Открытие спирали молчания]](/books/1092214/elizabet-noel.webp)