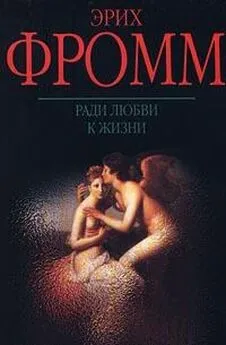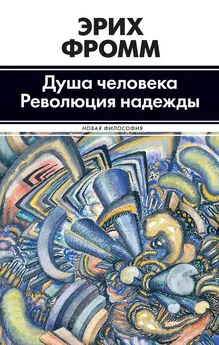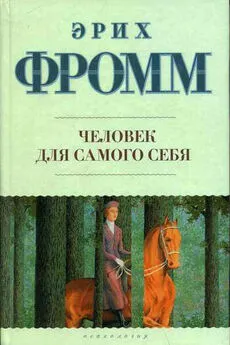Эрих Фромм - Быть человеком. Концепция человека у Карла Маркса
- Название:Быть человеком. Концепция человека у Карла Маркса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ (БЕЗ ПОДПИСКИ)
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-122081-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрих Фромм - Быть человеком. Концепция человека у Карла Маркса краткое содержание
В сборник «Быть человеком» включены статьи и лекции разных лет, посвященные вопросам, интерес к которым Эрих Фромм сохранял на протяжении всей своей жизни. Он полагал, что единственной альтернативой современному развитию общества, ведущему к самоотчуждению человеческой личности, может быть только ренессанс гуманизма, и предлагал внимательнее присмотреться к трудам гуманистов-мыслителей, наиболее яркими представителями которых считал Мейстера Экхарта и, как ни парадоксально это звучит, Карла Маркса.
В работе «Концепция человека у Карла Маркса» Эрих Фромм попытался развенчать сложившиеся стереотипы и многочисленные трактовки, исказившие до неузнаваемости истинную философию Маркса.
Быть человеком. Концепция человека у Карла Маркса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
13
Карл Маркс
«Религиозные» интересы Маркса
Дискуссия по поводу концепции Мейстера Экхарта вызывает трудности у тех, кто не может примирить его скрытый атеизм с его явной теологией, а также у тех, для кого использование слова «Бог» есть шибболет [87] Шибболет – библейское выражение, в переносном смысле обозначающее характерную речевую особенность, по которой можно опознать группу людей . – Примеч. пер.
, заставляющий их отвергать автора как «авторитарного» и «реакционного». Понять идеи Маркса еще сложнее. Советский коммунизм настолько преуспел в искажении идей Маркса (и попутно убедил Запад в том, что советский марксизм есть истинная интерпретация Маркса), что очень трудно избавиться от этой искаженной картины.
Трудность понимания Маркса связана с тем, что «советский марксизм», а также западные социалисты-ревизионисты представляют марксизм как в основном и исключительно касающимся экономики. Они интерпретируют «исторический (или диалектический) материализм» – термин, который сам Маркс не использовал, – в том смысле, что главная движущая сила человека заключается в страсти к обладанию и потреблению во все бо́льших и бо́льших количествах, и заявляют, что социализм есть лучший способ из всех для достижения большего производства и потребления. Только относительно небольшое число изучающих Маркса – среди них и сторонники, и противники Маркса – указывали на то, что окончательной целью Маркса были не экономические изменения, а изменения человека ; что идея верховенства стремления владеть – буржуазная, а не марксистская концепция. Маркс считал, что жадность к деньгам есть продукт определенных общественных обстоятельств, а не «инстинкт», приведший к возникновению этих обстоятельств. Его целью было освобождение человека от уродства, от потери себя, от отчуждения. Социалистическое общество было не целью само по себе, а средством полной реализации человеком своих возможностей.
Учение Маркса было в глубочайшем смысле нетеистической религиозной системой, направленной на спасение человека, на реформирование светского языка в соответствии с идеалами пророческого мессианизма.
Экскурс: религия и концепция Бога
Любая попытка показать религиозный характер системы Маркса встречается с почти непреодолимыми препятствиями. Первое препятствие, конечно, заключается в термине «религиозный», который обычно понимается как предполагающий веру в Бога. Это типичный европоцентрированный провинциализм. Конфуцианство, даосизм и буддизм были религиями, но не имели концепции Бога. Европейские [или западные] религии – иудаизм, христианство и ислам – пользовались символом Бога, потому что ближневосточная социальная и политическая организация предполагала придание высшей ценности концепции верховного отца или короля. Европейцы многие века высокомерно утверждали, что белый человек – символ, на котором строится любая религия. Хотя таково было общее чувство, теологи предложили более элегантное решение проблемы, говоря о «примитивных» формах религии, в которых неполное развитие не привело к признанию Бога как верховного существа. В результате почти все воспринимали слово «религиозный» так же, как концепцию Бога. Трудность можно было обойти, используя понятие «духовный» вместо «религиозный», и я буду так поступать временами. (Нет необходимости указывать, что слово «духовный» ассоциируется со «спиритизмом», имеющим тенденцию искажать это понятие.)
Трудность с поиском подходящего слова для атеистической религиозности лежит, конечно, не в малочисленности правильных названий, а в историческом развитии европейской мысли. Христианские верования, получившие формулировку у схоластов и окончательную систематизацию в трудах Фомы Аквинского, содержали концепцию Бога, пытавшуюся примирить два разных источника: библейского, непосредственно воспринимаемого Бога и философского Бога Аристотеля – Бога мысли, «недвижимого двигателя». Существование библейского воспринимаемого Бога могло бы быть «доказано» в соответствии с Аристотелем философскими аргументами. Во времена, когда альтернативного объяснения чуду сотворения не могло быть предложено, когда существовавшая геоцентрическая система практически не подвергалась сомнениям, не существовало проблемы с идентификацией этих двух Богов. Напротив, какое более выдающееся свидетельство истинности учения Библии можно было найти, чем свидетельство величайшего из философов, Аристотеля? Впрочем, как раз в силу великих достижений Фомы Аквинского по части примирения между верой и разумом началось развитие, которое со временем могло стать опасным, если не фатальным, для религии. При переходе философской мысли от абстрактного и неэмпирического подхода (под этим я не подразумеваю, что можно игнорировать эмпирические научные аспекты философии Аристотеля) к конкретному, критическому и со временем научному мышлению, философский фундамент религии сделался шатким.
Фома Аквинский, как и другие схоластики, учил, что доказать существование Бога можно философскими аргументами. Что случилось с этими доказательствами, когда прогресс критической и научной мысли вместе с новыми открытиями предложил альтернативные объяснения чуду сотворения и «закономерности» природы? От Галилея до Дарвина миф об особом месте человека среди живых существ, коренившийся в вере в библейские традиции, все больше подрывался; наука предлагала альтернативные и все более убедительные объяснения. Поскольку схоластика давала опору религии в концепции возможности доказательства существования Бога, что могло бы произойти с религиозными переживаниями, когда эта мысленная концепция утратила обоснованность?
Четырнадцатое столетие ознаменовалось открытием нового модуса мышления. Новые формы мышления и другие важные социальные факторы вызвали ускорение изобретательства, что прямо вело к конкретному, критическому подходу, которому суждено было стать основой научного мышления и технического развития. (Льюис Мамфорд справедливо предостерегал против современного клише, согласно которому Средневековье было «статичным», а до Ренессанса отсутствовал технический прогресс.) Главенствующей фигурой в новом витке развития философии был [англичанин] Уильям Оккамский (Уильям Оккам), выдающийся философ XIV века.
Значение Оккама и как теолога, и как философа заключается в отвержении им метафизических заключений средневекового реализма, который учил, что понятный порядок абстрактных сущностей и необходимых отношений онтологически предшествовал более «реальным» конкретным предметам и возможным событиям; т. е. интеллект может показать первопричины существующего порядка и в конце концов существование Бога. Оккам, находившийся в радикальной оппозиции к этим взглядам, переработал философию на основе радикального эмпиризма, предполагавшего очевидным базисом всякого знания прямое наблюдение за отдельными предметами и конкретными явлениями. Вера Оккама в Бога не могла быть ни опровергнута, ни доказана философскими рассуждениями или наблюдениями. Благодаря радикальному отходу Оккама от схоластической метафизики упор в его теологии переместился с размышлений о Боге к непосредственным субъективным переживаниям. Более того, он освободил веру в Бога от опасности уничтожения научными прозрениями. Разум не мог бы ни доказать, ни опровергнуть существование Бога; основой веры могло быть только внутреннее переживание. Мнения о том, что мысленная концепция «Бог как верховный правитель» была обусловлена исторически и что, не будь Ближний Восток местом происхождения христианства, эта концепция не была бы избрана, были, конечно, чужды состоянию умов в XIV столетии. Когда внимание переместилось с мысленной концепции на опыт, первая потеряла свое значение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: