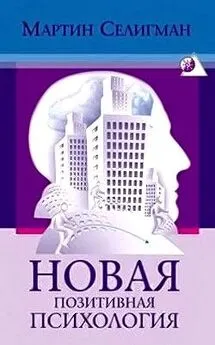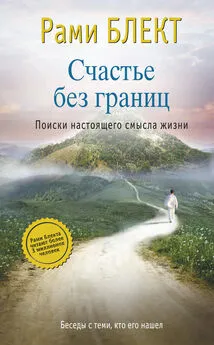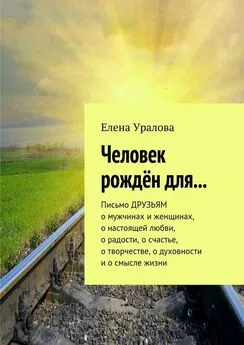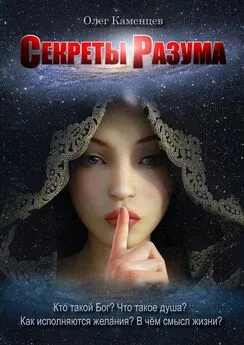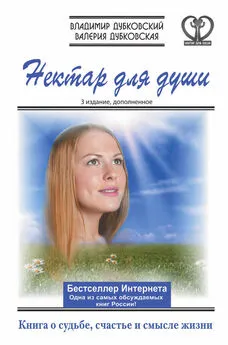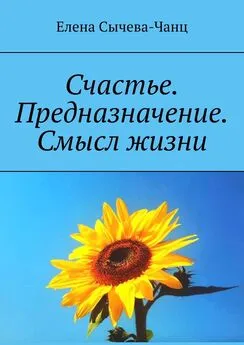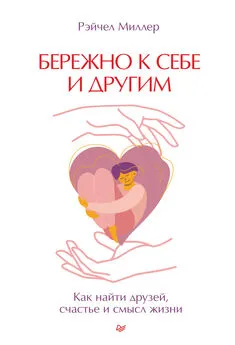Олег Цендровский - Между Ницше и Буддой [счастье, творчество и смысл жизни]
- Название:Между Ницше и Буддой [счастье, творчество и смысл жизни]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-127178-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Цендровский - Между Ницше и Буддой [счастье, творчество и смысл жизни] краткое содержание
Автор этой книги – кандидат философских наук, создатель крупнейшего в России блога и подкаста о философии, психологии и нейробиологии «Письма к самому себе». В ней эти фундаментальные вопросы разобраны и увлекательно, и доступно, и на обширной доказательной базе.
Между Ницше и Буддой [счастье, творчество и смысл жизни] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Названный страх перед взятием на себя достаточной ответственности, перед напряжением мысли, перед внутренней работой отмечали многие ученые, писатели и философы. Бертран Рассел зашел так далеко, что объявил, будто «люди боятся мысли больше, чем чего-либо на земле: больше катастрофы, даже больше смерти»[24]. Красочнее всех, пожалуй, бегство от высшего творческого усилия описал Ницше в следующих прекрасных строках из «Шопенгауэр как воспитатель»:
«Некий путешественник, повидавший много стран и народов и несколько частей света, будучи спрошен, какое свойство людей он находил повсюду, сказал: все они склонны к лености. Иному может показаться, что было бы правильнее и точнее сказать: все они боязливы. Они прячутся за обычаи и мнения. В сущности, каждый человек хорошо знает, что он живет на свете только один раз, что он есть нечто единственное и что даже редчайший случай не сольет уже вторично столь дивно-пестрое многообразие в то единство, которое составляет его личность; он это знает, но скрывает, как нечистую совесть, – почему? Из страха перед соседом, который требует условности и сам прячется за нее. Но что же заставляет отдельного человека бояться соседа, мыслить и поступать стадно и не наслаждаться самим собой? Немногих и редких людей, быть может, – стыдливость. Но для огромного большинства это – изнеженность, инертность, – словом, та склонность к лени, о которой говорил путешественник. Он прав: люди еще более ленивы, чем трусливы, и всего больше боятся именно трудностей, которые на них возложила бы безусловная честность и обнаженность.
<���…> Если великий мыслитель презирает людей, то он презирает их леность, ибо из-за нее они кажутся фабричным товаром, безразличными существами, недостойными общения и поучения. Человеку, который не хочет принадлежать к массе, достаточно только перестать быть инертным в отношении самого себя…»
Мудрые мира сего, издавна заметившие, как тяжело даются мысль и творчество, предложили этому совершенно справедливое объяснение. Наш дух, рассуждали они, так же как и наше тело, суть равновесные системы. По большей части они стремятся к сохранению status quo – их текущего состояния; иначе говоря, они ленивы . Всякие попытки поднять планку чуточку повыше встречаются с сопротивлением и гаммой неприятных ощущений, от дискомфорта до агонии. Как раз адаптация к этим стрессовым факторам постепенно способна вывести точку поддерживаемого равновесия на новый уровень.
Мышцы, испытывая метаболический и механический стресс, увеличиваются в объеме и совершенствуют клеточное оборудование. Занятый обработкой информации мозг, преодолевая нервную усталость, учится, формирует новые связи и даже новые нейроны. Вместе с тем, объем, интенсивность и продолжительность стресса, которые требуются для духовного и творческого роста, не сопоставимы с потребностями развития физического и даже интеллектуального, потому столь немногие продвинулись по этому неторному пути. Люди столь инертны, столь малоспособны к изменению именно в силу собственной неготовности платить запрашиваемую всякой трансформацией цену – дискомфорт и боль, тем большие, чем амбициознее ставимые задачи.
В той точке, где мы перестаем испытывать дискомфорт, наше продвижение вперед или заканчивается, или невероятно замедляется. Овладев чем-то хорошо, мы замечаем, насколько проще нам стал даваться этот некогда тяжелый процесс, он даже стал легким и приятным. Так, писатель, набивший себе руку, постепенно перестает испытывать то «отчаяние перед пустым листом бумаги», о котором писали Чехов да Маркес, его перо теперь скользит по бумаге радостно и уверенно. Удовлетворившись выработанной сноровкой и стилем, он перестает подвергать себя постоянному давлению неудовлетворенности, тому, которое по-настоящему амбициозные авторы испытывают всю свою жизнь, никогда не довольные достигнутым уровнем мастерства. Не желающие примиряться с собственными ограничениями и границами, они постоянно продавливают их выше и выше, находятся в перманентном напряжении – именно так творят гении, они пишут собственной кровью.
На первый взгляд все это звучит очень убедительно, но то лишь на первый взгляд. Для более взвешенной оценки следует избавиться от драматизации и провести важное различие между причинностью и корреляцией. Из истории хорошо известны примеры творцов и сильнейших представителей человечества, терзавшихся постоянными душевными муками. Но столь же хорошо известны примеры гениев, трудившихся в относительной внутренней гармонии. Нет никаких нейробиологических или иных оснований считать, что настоящее, интенсивное страдание, каким оно предстает внутреннему взору при звуках этого слова, является необходимым условием роста. Напротив, оно суть подлежащий устранению побочный эффект искаженного восприятия действительности.
Затраты энергии и напряжение в процессе преодоления собственных ограничений без всякой нужды запускают двигатели в центрах негативных эмоций, и они начинают работать и бить тревогу, будто нечто идет не так . Между тем происходит именно то, что должно происходить: сопротивление действительности нашим устремлениям, переживаемый нами творческий дискомфорт усилия есть то, что обеспечивает рост; это точка максимального смысла и вместе с тем счастья. Страдание сопрягается с творчеством и саморазвитием, лишь когда мы ошибочно видим в трудностях угрозу и тем самым превращаем творческий дискомфорт (действительно необходимый) в муку. Нам нужно приучить мозг видеть в них то, чем они являются взаправду – вызов и возможность, тогда мы сможем пройти между Сциллой бесплодия и Харибдой напрасного мученичества.
II. Стресс от неудачи или страха перед ней
Столь же неправомерно мы считаем угрозой следующую группу стрессовых факторов: щелчки по носу нашим планам, которые мир раздает очень охотно. Причина этого в перевернутой с ног на голову перспективе, при которой мы придаем большее значение внешним, а не внутренним последствиям собственных поступков. Мы забываем о той основополагающей не только философской, но и строго научной нейробиологической истине, что именно способ проживания нами опыта, а не его непосредственное содержание определяет нашу жизнь.
Несовершенства, ошибки и неудачи действительно наносят ущерб внешним обстоятельствам существования. Они зачастую сокращают список того, чем мы обладаем , или сдерживают его расширение. Однако для того, кто мы есть , для нашего мировосприятия и способа проживания, это возможность и вызов – те ключевые ситуации, в которых происходит взрывной рост. Мы должны быть способны воспользоваться положительным зарядом отрицательной обратной связи, тогда в наши руки ложатся приобретения для куда более важной способности управлять собственными психическими процессами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Олег Цендровский - Между Ницше и Буддой [счастье, творчество и смысл жизни]](/books/1061069/oleg-cendrovskij-mezhdu-nicshe-i-buddoj-schaste-tv.webp)