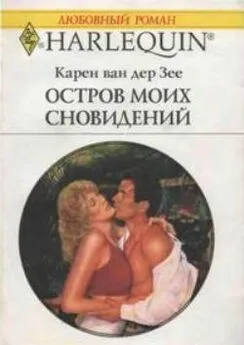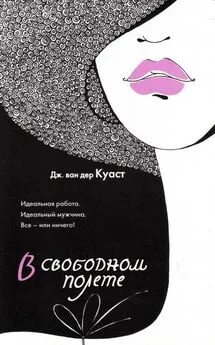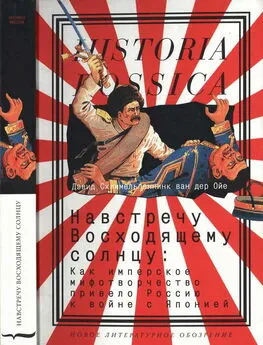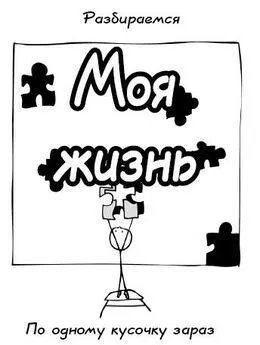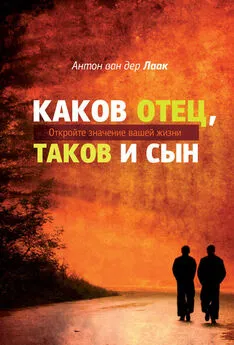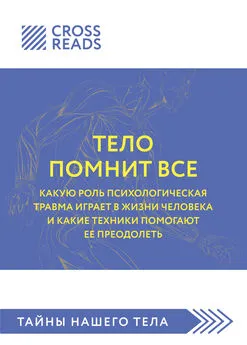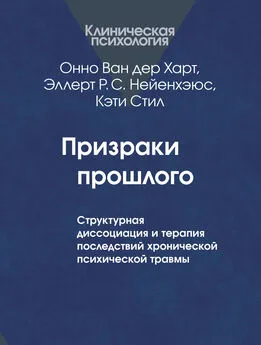Бессел ван дер Колк - Тело помнит все [Какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть]
- Название:Тело помнит все [Какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-099865-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бессел ван дер Колк - Тело помнит все [Какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть] краткое содержание
Доктор Бессел ван дер Колк, один из самых известных в мире специалистов по травме, провел более 30 лет, изучая посттравматическое стрессовое расстройство. Объединяя все исследования в области травмы, свой опыт и истории пациентов, в этой книге он объясняет, как травма буквально меняет тело и мозг, лишая переживших ее нормальной жизни, близких отношений и самоконтроля. Но есть и хорошие новости – автор расскажет, как мы можем помочь себе и своим близким в этой ситуации. Исследуя различные возможности исцеления: от медитации, йоги и спорта до занятий в театральных кружках – доктор Бессел предлагает новые пути к выздоровлению, активируя естественную нейропластичность мозга. Тем самым доктор дарит надежду на выздоровление и полноценную жизнь тем, кто столкнулся с травмой.
Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со специалистом.
Тело помнит все [Какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В ходе исследования стратегий привязанности, в котором приняли участие более двух тысяч детей из «нормальных» семей среднего класса, было установлено, что 62 процента чувствовали себя в безопасности, 15 процентов были замкнутыми (отстраненная стратегия), 9 процентов тревожными (противоречивая стратегия), а 15 процентов – беспорядочными (21). Любопытно, что, как показало это исследование, пол и характер ребенка оказывали мало влияния на стратегию привязанности – так, например, у «трудных» детей не была выявлена повышенная вероятность выработки беспорядочной привязанности. Дети из более низких социально-экономических слоев оказались более склонны к беспорядочной привязанности (22) – вероятно, это связано с тем, что родители сильно нервничают из-за финансовых и семейных проблем.
У детей, не чувствующих защищенности во младенчестве, по мере взросления возникают сложности с контролем своего поведения и эмоциональных реакций. К тому моменту, как они идут в детский сад, многие из этих детей становятся агрессивными или замкнутыми, и у них развиваются различные психиатрические проблемы (23). Кроме того, у них наблюдается повышенный уровень физиологического стресса, выражающегося в изменении частоты сердцебиения, вариабельности сердечного ритма (24), гормональных реакций с участием гормонов стресса, а также пониженном иммунитете (25). Происходит ли автоматическая нормализация подобных биологических дисфункций, когда ребенок взрослеет или перебирается в более безопасную для него среду? Насколько нам известно, этого не происходит.
Жестокое обращение со стороны родителей является не единственной возможной причиной развития беспорядочной привязанности: родители, слишком поглощенные своей собственной психологической травмой, связанной, например, с домашним насилием, изнасилованием или недавней смертью кого-то из родителей либо другого ребенка, могут также быть эмоционально нестабильными и изменчивыми, чтобы обеспечивать необходимый комфорт и защиту (26, 27). Если даже для воспитания чувствующих себя защищенными детей все родители нуждаются в любой доступной поддержке, травмированным родителям особенно нужна помощь в подстройке к потребностям своих детей.
Взрослые зачастую не осознают, когда их синхронизация с детьми нарушается. Я отчетливо помню видеозапись, которую мне показала Беатрис Биби (28). На ней молодая мать играла со своим трехмесячным младенцем. Все было хорошо, пока ребенок не отстранился и не отвернул голову, дав понять, что ему нужен перерыв. Мать, однако, не уловила этих сигналов и стала еще старательнее пытаться вовлечь ребенка в игру, повысив громкость голоса и приблизив к нему свое лицо. Когда он отпрянул еще дальше, она продолжила качать его и тыкать в него. Наконец он начал кричать, после чего мать уложила его и ушла с удрученным видом. Было очевидно, что она чувствует себя ужасно, однако она попросту не уловила важных сигналов от ребенка. Легко представить, как подобное недопонимание, повторяясь снова и снова, может привести к хроническим проблемам во взаимодействии (каждый, кому доводилось воспитывать страдающего от коликов или гиперактивного ребенка, знает, как быстро нарастает стресс, когда кажется, будто ничего не помогает). Раз за разом оказываясь не в состоянии успокоить своего ребенка или нормально с ним поиграть, мать может начать воспринимать его как трудного, чувствовать себя нерадивой матерью и в будущем больше не предпринимать попыток его успокоить.
На практике зачастую оказывается сложно отличить проблемы, возникшие из-за беспорядочной привязанности, от проблем, ставших следствием травмы: они зачастую оказываются переплетены между собой. Моя коллега Рэйчел Иегуда занималась изучением распространенности ПТСР среди взрослых жителей Нью-Йорка, переживших нападение или изнасилование (29). Те, чьи матери пережили Холокост с последующим развитием у них ПТСР, значительно чаще сталкивались с тяжелыми психологическими проблемами после этих травмирующих происшествий. Самое логичное объяснение подобной закономерности заключается в том, что в процессе воспитания их психика осталась уязвимой, из-за чего им было сложнее восстановить внутреннее равновесие после перенесенного насилия. Иегуда обнаружила схожую уязвимость среди детей женщин, которые находились в Мировом торговом центре в тот самый трагический день 2001 года (30).
Аналогично реакция детей на болезненные события во многом определяется тем, насколько спокойны или взволнованны их родители. Мой бывший студент Гленн Сакс, ныне заведующий кафедрой детской и подростковой психиатрии в Нью-Йоркском университете, продемонстрировал, что развитие ПТСР у детей, попавших в больницу с тяжелыми ожогами, можно было предсказать, отталкиваясь от того, насколько защищенными они себя чувствовали со своими матерями (31).
Характер привязанности детей к матерям предсказывал необходимую для облегчения боли дозировку морфина – чем более здоровой была привязанность, тем меньше обезболивающего им было нужно.
Другой мой коллега, Клод Чемтоб, руководивший программой изучения семейной травмы в медицинском центре Лангон при Нью-Йоркском университете, исследовал 112 детей из Нью-Йорка, ставших непосредственными свидетелями террористических атак 11 сентября 2001-го (32). Дети, чьим матерям впоследствии диагностировали ПТСР или депрессию, в шесть раз чаще оказывались подвержены серьезным эмоциональным проблемам или повышенной агрессии в ответ на то, что они пережили. У детей, чьи отцы столкнулись с ПТСР, также наблюдались проблемы с поведением, однако Чемтоб обнаружил, что этот эффект не был прямым и передавался через мать (когда живешь с вспыльчивым, отстраненным или напуганным супругом, то это запросто может стать сильной психологической нагрузкой, вплоть до развития депрессии).
Когда у человека нет внутреннего чувства защищенности, ему сложно различать, что представляет опасность, а что нет. Когда ваши эмоции и чувства постоянно притуплены, потенциально опасные ситуации могут помогать чувствовать себя живым. Когда кто-то приходит к выводу, что он, должно быть, ужасный человек (иначе зачем бы родители стали к нему так относиться?), то он начинает ожидать ужасного обращения и со стороны других людей. Он думает, что заслуживает этого, да и в любом случае ничего не может с этим поделать. Когда люди с дезорганизацией начинают воспринимать себя подобным образом, они обречены на получение психологической травмы от дальнейших событий в своей жизни (33).
Долгосрочные последствия беспорядочной привязанности
В начале 1980-х моя коллега из Гарварда Карлен Лайонс-Рут, исследователь привязанности, начала записывать на видеопленку прямое взаимодействие между матерями и их детьми в возрасте полугода, года и полутора лет. Она снова сняла их на видео в возрасте пяти, семи и восьми лет (34). Все были из семей, принадлежавших к группе повышенного риска: сто процентов в соответствии с установленными государством критериями жили за чертой бедности, а почти половина матерей воспитывали детей в одиночку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Бессел ван дер Колк - Тело помнит все [Какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть]](/books/1065979/bessel-van-der-kolk-telo-pomnit-vse-kakuyu-rol-ps.webp)