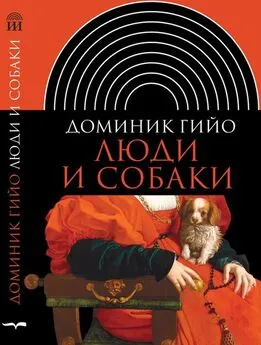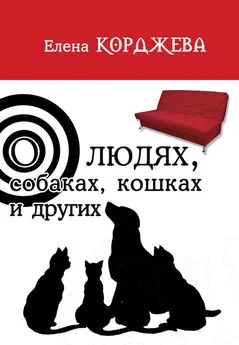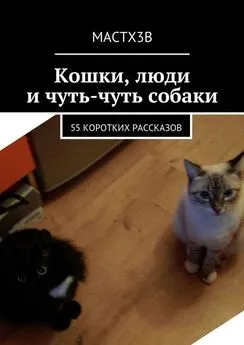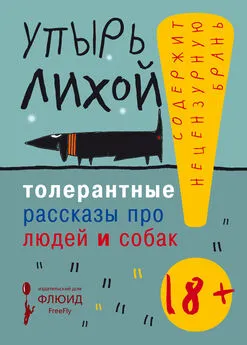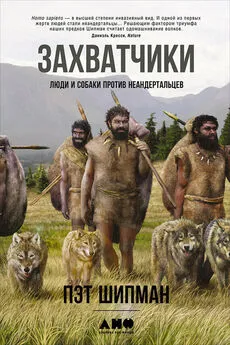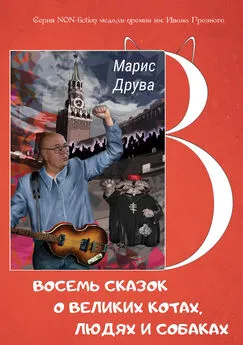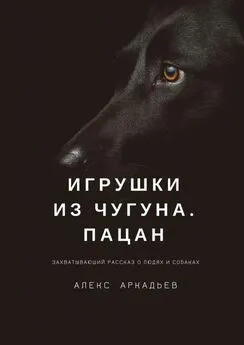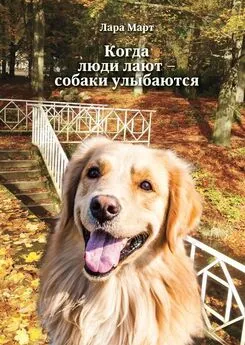Доминик Гийо - Люди и собаки
- Название:Люди и собаки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0695-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Доминик Гийо - Люди и собаки краткое содержание
Люди и собаки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Помимо прочего этология добавляет дополнительный элемент, который дискредитирует интересующую нас тему и относится не к животным вообще, а к особой категории животных, для которых собака может служить своего рода символом: животным домашним. Классическая этология давно исключила домашнее животное из сферы своих интересов, рассматривая его как животное «гуманизированное», другими словами «денатурализованное», слишком отдалившееся от своей природной сущности, от того феномена, что представлял бы собой зверь, живи он вдали от человека.
Подведем итог краткому обзору, который должен был в общих чертах обозначить точки зрения, долгое время царившие в мире науки и, шире, человеческого познания в том, что касается отношения к животным вообще и к домашним животным в частности: низведенные философией и гуманитарными науками до уровня вещи, не представляющие научного интереса для большей части этологов, домашние животные становятся жертвой двойного забвения. С одной стороны, не будучи творением рук человеческих, они нисколько не интересуют философов, социологов, антропологов и психологов, которые давно уже выстроили непреодолимые границы между миром человека и миром животных. С другой стороны, рассматриваемые в качестве существ излишне гуманизированных, они обделены и вниманием ученых-этологов, цель которых состоит в том, чтобы при интерпретации поведения животных отсечь черты, предположительно обусловленные контактами с человеком.
Слишком очеловеченные для одних и недостаточно — для других, и в том и в другом случае вывод напрашивается сам собой: наши отношения с животными не более чем иллюзия, и поэтому они вряд ли заслуживают особого внимания. Человек должен жить «настоящей» жизнью и в эмоциональном, и в социальном плане: так, чтобы чувства его были нацелены на объекты, которым «положено» их получать, то есть на других людей; жизнью, где «нет места заблуждениям», жизнью, для которой «он создан». Оставаясь в плену своих иллюзий, человек испытывает чувства искаженные, замещенные и лишенные истинного содержания, чувства, искусственно направленные на ничего не значащий предмет, будь то предмет одушевленный или нет.
Связь, древняя как мир
И все-таки уже при первом приближении становится очевидной зыбкость аргументов такого объяснения наших взаимоотношений с животными вообще и с собаками в частности. Начать с того, что эмоциональную близость с собаками нельзя считать феноменом, присущим только лишь современному индустриальному обществу. Известный тому пример — один из многих других — поэт лорд Байрон: безутешно скорбящий после смерти своего ньюфаундленда, он без тени сомнения пишет эпитафию на могилу собаки:
Здесь погребены останки того, кто обладал красотой без тщеславия, силой без наглости, храбростью без жестокости и всеми добродетелями человека без его пороков.
Эта похвала могла бы стать ничего не значащей лестью, будь она над прахом человека, но она — справедливая дань памяти
[4] Впервые — сб. «Подражания и переводы», 1809. (Прим. пер.)
Погружаясь в глубь веков, пересекая страны и моря, мы всегда и всюду находим собаку. Одним из наиболее ярких примеров может служить тот факт, что у племен североамериканских индейцев единственным одомашненным животным, существовавшим в тесном контакте с человеком, была собака. До прихода европейцев индейцы не занимались скотоводством, не разводили лошадей и не ездили верхом, а мясо добывали охотой. Однако многие племена уже тогда держали собак (Delage, 2005). Не менее удивительными представляются археологические находки скульптур собак, относящиеся к древнейшим в мире человеческим сообществам, таким как доколумбовы цивилизации Южной Америки или первобытные племена в Европе. Существование подобных артефактов свидетельствует об исключительно древней природе эмоциональной связи, которая связывает некоторых представителей нашего вида с этим животным. Историческая глубина осознания этой связи находит свое отражение в мифологии: первым, кто узнал Одиссея, вернувшегося с Троянской войны, был его пес Аргус.
Иными словами, — и мы еще не раз сможем в этом убедиться, — не будет преувеличением сказать, что взаимодействие человека с собакой — это действительно трансисторический и транскультурный феномен. Canis familiaris можно найти практически во всех человеческих обществах начиная с доисторических времен. Вряд ли какое-либо другое животное могло бы похвастаться тем же. Не следует ли из этого, что собака для нас животное совершенно особое, во многих отношениях отличающееся ото всех прочих? Антропология настаивает на глубоких различиях между человеческими сообществами, особо подчеркивая, что общие для всех культурных и исторических формаций феномены встречаются крайне редко. Тем более странно — и это лучше всего подтверждается созданной ею же глубокой пропастью между человеком и животным, — что и по сей день эта наука ничуть не заинтересовалась природой той непонятной связи, которая объединяет Homo sapiens sapiens с собакой. В конечном счете, настолько ли абсурдны попытки увидеть в этом явлении отличительную черту любого человеческого общества, во всяком случае некую его особенность, приоткрывающую важные, хотя и скрытые аспекты нашей природы? Почему бы не рассматривать присутствие собаки рядом с человеком как общий для всех культур феномен, настолько же универсальный, насколько универсальными признаны такие их качества, как, например, социальное расслоение, разделение труда или запрет на инцест? И уж во всяком случае, приведенные здесь аргументы опровергают большую часть положений, на которых базируется тезис о собаке-иллюзии.
Неужели они настолько умны, чтобы нас одурачить?
Есть и другие обстоятельства, способные поставить под сомнение тезис о собаке-иллюзии. Если принять этот тезис за точку отсчета, то необычайную популярность, которой пользуется среди людей собака, пришлось бы объяснять не какими-то особыми качествами нашего четвероногого друга, а исключительно нашим же собственным безудержным стремлением проецировать свои мысли и чувства на самые разнообразные вещи. Но почему в подобном случае у человека не возникает желания приласкать камень, водоросли, ястреба, паука, акулу или змею — так, как он ласкает собаку? Почему он не разговаривает с ними так же, как с собакой? Вероятно, потому, что между человеком и Canis familiaris происходит нечто особенное, то, что связано с природой самой собаки, а не только лишь с нашим стремлением приписывать чувства и разумное поведение всему, что нас окружает.
Можно было бы возразить, что немалое количество людей испытывает симпатию к паукам-птицеедам или питонам. Действительно, в так называемых первобытных обществах, равно как и в обществах современных — особенно с развитием идей Нового времени, — не так уж редко люди адресуют свои чувства растениям, горам или морю. Точно так же человек может разговаривать со своим компьютером, сердиться на него, ругать его за то, что тот «никогда не работает», иногда даже плакать, когда он вдруг сломается. Мы можем заплакать, если разбивается вещь, принадлежащая близкому человеку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: