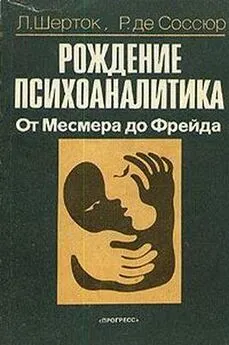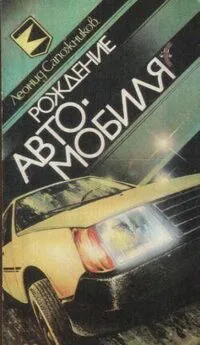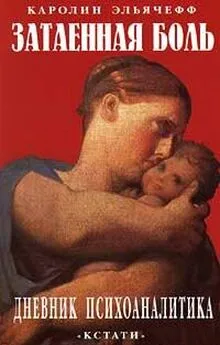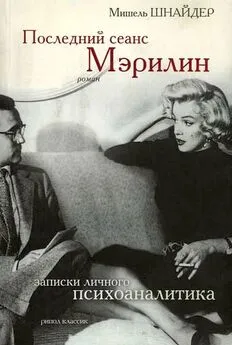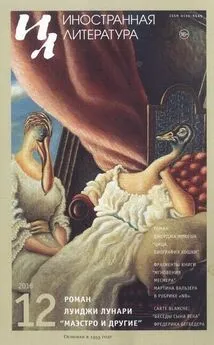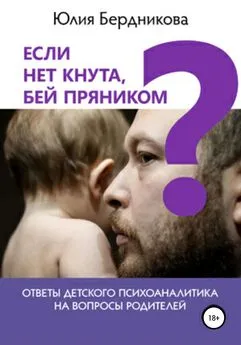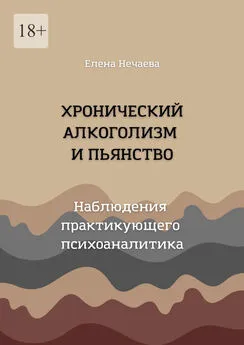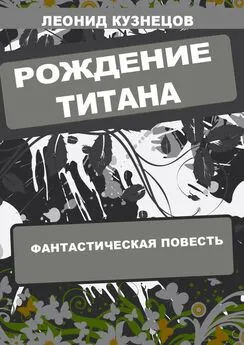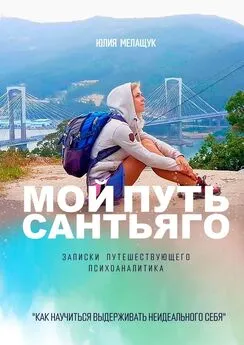Леон Шерток - Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда
- Название:Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леон Шерток - Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда краткое содержание
М.: Прогресс, 1991. — 288с. ISBN 5-01-002509
Перевод с французского и вступительная статья доктора философских наук Н. С. Автономовой
В книге излагается история психотерапевтических учений, начиная с концепции «животного магнетизма» Месмера и кончая открытием бессознательного в психике человека и возникновением психоанализа Фрейда.
В электронной версии книги нет Указателя.
Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дальнейшее развитие психоанализа заставило усомниться в правомерности самой формулы «излечение через осознание». Интерес к аффективно-эмоциональным сторонам межличностного отношения все более усиливался. Споры и обсуждения вызывают прежде всего такие вопросы: столь ли радикален «эпистемологический разрыв», отделяющий психоанализ от предшествующих видов психотерапии (внушения, гипноза)? Столь ли подконтрольна сознанию психоаналитическая практика? Столь ли специфичен психоанализ как социальное установление среди таких авторитарных институтов, как церковь или армия? Все эти три аспекта недооценки эмоционально-аффективного компонента в психоанализе — исторический, практико-терапевтический и социальный — были оспорены его последующей историей, как показано в очерке Л. Шертока «Возрожденное внушение», также включенном в эту книгу. Однако это произошло не сразу. Сначала предстояло сделать еще один шаг по пути развития тех традиций психоанализа, которые предполагали верность Фрейду. И для понимания этого шага необходимо обратиться к той странице истории психоанализа (в «Возрожденном внушении» об этом сказано бегло, поскольку текст адресован публике, хорошо осведомленной в ситуации), без которой советскому читателю многое будет неясно в идейном подтексте современной истории психоанализа.
Одним из крупнейших последователей Фрейда, сохранивших и усиливших интеллектуалистский пафос психоанализа, был Жак Лакан (1901–1981). В психоаналитической теории и практике Лакан заостряет именно те интеллектуально-интерпретативные моменты, которые считал существенными и сам Фрейд, и потому лакановский девиз «назад к Фрейду» сохраняет свой смысл, несмотря на все произведенные им переосмысления фрейдовской программы. Франция довольно сильно запоздала с признанием и распространением психоанализа: вплоть до конца второй мировой войны число практикующих психоаналитиков здесь было невелико. Именно с Жаком Лаканом, «французским Фрейдом» [7] Turk le Sh. Psychoanalytic Politics. Freud’s French Revolution. London, 1981.
, связан подъем французского психоанализа в послевоенные годы. Лакановское отношение к психоанализу было попыткой «большого синтеза», стремлением включить в психоанализ данные современных гуманитарных наук — этнологии, антропологии, литературоведения, математики, философии и прежде всего — лингвистики. Акцент на языке и речи, на символическом уровне психики, где, собственно, и действует язык, порядок, закон, новая ступень деперсонализации психоанализа, при которой общение врача и пациента предстает, по сути, как саморазвитие языковых интерпретаций, а роль врача сводится к пунктуации этого движения языка, — все это свидетельствует о том, что Лакан стремился предельно интеллектуализировать психоаналитическую работу. Не случайно Лакан отказывался видеть цель анализа в исцелении и полагал, что выздоровление возможно лишь как случайный, побочный результат истолкования и прояснения. В противоположность более мягкой позиции Фрейда Лакан налагал прямой запрет на исследования и практику гипноза и внушения. Однако при этом во внетеоретических формах деятельности Лакана так или иначе выражалась эмоциональная гипносуггестивная подоплека психоаналитических процессов, порождая сомнения в правильности акцента на интеллектуально-интерпретативную сторону психоанализа в ущерб его эмоционально-аффективной стороне [8] В самом деле, конфликт с Международной психоаналитической ассоциацией, закончившийся отлучением Лакана от официально признанного психоанализа, ситуация массовой и вполне «гипнотической» зависимости учеников и пациентов от слова и поступка мэтра, многократные расколы в лоне французского психоанализа, сложная и почти «скандальная» обстановка создания, а впоследствии роспуска Парижской школы фрейдизма (1964–1980) — все это лишь подчеркивало саму ситуацию воли и власти, болезненное противоречие между теорией и практикой, между индивидуальным и институциональным, между «призванием» к психоанализу, за которое ратовал Лакан, и необходимостью каких-то внешних форм социального контроля и социального обеспечения этой «невозможной профессии». Вокруг этих проблем в современном психоанализе идут бурные споры (см., например, Green A. Instance tierce ou rapports du tiercé? — «Le Monde», 10 fév. 1990, p. 2).
.
Справедливости ради нужно отметить, что уже в 20-е годы ученики Фрейда Ференци и Ранк подчеркивали значение эмоционально-аффективных компонентов в психоанализе, утверждая, что осознание позволяет устранить симптомы лишь в тех случаях, когда мы имеем дело не с собственно бессознательным, а лишь с предсознательным, неполно вытесненным: само бессознательное, которое существует где-то на довербальном уровне, невозможно ни вспомнить, ни пережить, ни осознать [9] Ferenczi S., Rank О. The development of psychoanalysis. N.Y, Washington, 1925. См. также: Chertok L. Le conflit Freud — Ferenczi ou Théorie et pratique en psychanalyse. — In: Sixièmes journées de formation continue (janviet, 1986).
. Актуальность всех этих пророческих предупреждений в полной мере выявилась в рамках французского психоанализа к концу 70-х годов. Сомнения и переосмысления сосредоточились как раз в тех трех направлениях, в которых у Фрейда и затем Лакана происходило «вытеснение» глубинных эмоционально-аффективных компонентов психоанализа. Приведенный в «Возрожденном внушении» материал свидетельствует о том, как очевидным становится не только присутствие аффективных моментов (в частности, внушения и гипноза) в психоанализе [10] Ср.: «Зависимость гипнотизируемого от гипнотизера, установление избирательной, интенсивной, сомнамбулической связи, способность испытывать внушение, воспринимать передаваемые мысли — все это вновь обнаружилось в самом средоточии аналитического курса — в форме трансфера» [Borch-Jacobsen M. Le sujet freudien. Paris, 1982, p. 189].
, но и наличие непосредственной преемственности между психоанализом и предшествовавшими ему психотерапевтическими практиками. Кроме того, гипносуггестивные моменты обнаруживаются в самом фундаменте психоаналитического сообщества, во взаимоотношениях учителя и ученика — прежде всего по отношению к Фрейду и Лакану. Ныне подвергается сомнению главный тезис Фрейда о господстве осознания над чувствами, о преимущественной роли интеллектуального истолкования в излечении больного. Эти сомнения возникли прежде всего в среде англо-американских психотерапевтов и психоаналитиков (Боулби, Малер, Масуд Кан, Уинникот, Когут, Сиерлес и др.) после второй мировой войны. Философское обоснование такого подхода дается в работах О. Маннони, Ф. Рустана, М. Борш-Якобсена и прежде всего — М. Анри. Многие из этих авторов полагают, что для того, чтобы понять Фрейда, необходимо по-новому взглянуть на «генеалогию» психоанализа. Раз процессы архаического, симбиотического уровня, участвующие в психоанализе, развертываются там, где еще нет «Я» и вообще каких-либо аналогов субъект-объектных структур, значит, на этом уровне невозможно представление чего-либо, относящегося к бессознательному, в вещной, предметной форме, а потому — невозможно забывание, вспоминание, осознание тех или иных бессознательных содержаний в форме представления. Говорить о представлении, полагают М. Анри и М. Борш-Якобсен, можно лишь применительно к вторично или неполно вытесненным психическим содержаниям, сформировавшимся на стадии эдиповых конфликтов. Их действительно можно забыть, вспомнить, осознать — но ведь это не бессознательное или, точнее, не все бессознательное, но лишь его наиболее поверхностная часть. Наиболее решительный вывод, который в таких случаях делается, таков: бессознательное вообще не может быть объектом научного познания, коль скоро оно, по сути своей, никогда не дано нам в форме представления. А раз у нас нет надежных знаний о бессознательном, значит, у нас не может быть и практики, основанной на знании о бессознательном. Подобно тезису о первенстве интеллектуального перед аффективным, сомнению подвергается и понятие трансфера как средства разрешения трудностей межличностных отношений на уровне осознания. Проводя своеобразную деконструкцию понятий «трансфер» и «внушение», Шерток обнаруживает истоки обоих понятий в преданалитическом опыте, показывает неправоту или ограниченность современного психоаналитического «логоцентризма» [11] Современные американские исследователи (прежде всего Нэд Лукачер и Герман Рапапорт) истолковывают этот мыслительный путь в духе знаменитой программы деконструкции европейской логоцентристской метафизики, предлагаемой Жаком Деррида. Хотя такое соответствие деконструктивистской программе не входило в собственный замысел Л. Шертока (в этой связи он называет себя мольеровским Журденом, который и не подозревал, что говорит прозой), некоторые проблемные переклички здесь действительно можно отметить.
. Ведь и сама речь в психоанализе пронизана аффективными отношениями. А разве «свободные ассоциации» действительно «свободны» и могут быть свидетельством освобождения субъекта? Если Шерток видит элементы внушения (особенно косвенного) не только в гипнозе, но и в психоанализе, то М. Борш-Якобсен проводит еще более глубокую реконструкцию психоаналитического процесса. Он усматривает общее звено между психоанализом и внушением не в доаналитическом гипнозе, а на уровне транса. Таким образом, поиск общего целительного компонента в различных видах психотерапии подходит ко все более глубоким и архаичным культурным формам.
Интервал:
Закладка: