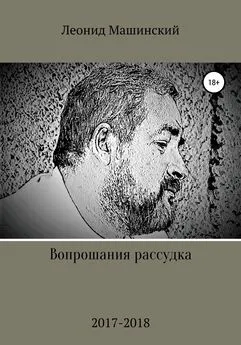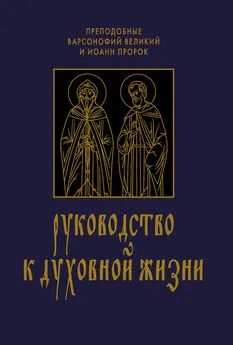Ганс Гадамер - Об искусстве вопрошания
- Название:Об искусстве вопрошания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ганс Гадамер - Об искусстве вопрошания краткое содержание
Об искусстве вопрошания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
поддакиванию собеседником платоновских диалогов. Позитивной стороной этой монотонности является внутренняя последовательность, с которой продвигается вперед развп ваемая в диалоге мысль. Вести беседу — значит подчинят: ся водительству того дела, к которому обращены собесе,! ники. Чтобы вести беседу, нужно не играть па понижешь аргументов собеседника, но суметь действительно оценить фактическую весомость чужого мнения. Искусство веден и i беседы есть, таким образом, искусство испытывания чужого мнения . Но искусство испытывания есть искусство спрашивания. Мы уже видели: спрашивать — значит ра скрывать и выводить в открытое. Наперекор устойчивости мнений спрашивание приводит в состояние нерешенности само дело со всеми его возможностями. «Искусством-' спрашивания обладает тот, кто способен противостоят!. ^ господствующему мнению, стремящемуся замять вопрос. Тот, кто обладает этим искусством, сам отыскивает ш * аргументы, говорящие в пользу того или иного мнения Диалектика и заключается в том, что собеседник не отыскп вает слабые стороны того, что говорит другой собеседник, но сам же и раскрывает подлинную силу сказанною другим. Здесь, следовательно, вовсе не то искусство арг\ монтирования и ведения речей, которое способно так:.!' и слабое сделать сильным, но искусство мышления, котор-н усиливает сказанное, обращаясь к самому делу.
Этому искусству усиливания платоновский диалог обя зан своей исключительной актуальностью. Ведь в этом усиливании сказанное постоянно доходит до крайних во:; можностей своей правоты и истины, превосходя все Kosrn доводы, стремящиеся ограничить его смысловую знамм мость. Очевидно также, что при этом невозможно оставим вопрос открытым, так как тот, кто стремится к познаиш-не может довольствоваться простыми мнениями, то ecu. не может дистанцировать себя от тех мнений, которыг поставлены под вопрос [см. выше, с. 349, 398 и c.rr.J. C=i', говорящий — вот кто постоянно требуется к ответу, по;; не раскроется наконец истина того, о чем идет ре°:.. Майевтическая продуктивность сократического диалог; его повивальное искусство слова хотя и обращено к сам я-, участвующим в беседе людям, однако придерживаем, исключительно тех мнений, которые они вмсказыгмм и фактическая последовательность которых развертыг, ется в беседе. То, что раскрывается здесь в своей истин есть логос, который не принадлежит пи мне, ни тг и который поэтому настолько превышает субъективна мнения собеседников, что даже и тот, кто руково.
беседой, все время остается в неведении. Диалектика как искусство ведения беседы есть одновременно искусство видеть вместе с собеседником единство данной точки зрения (avjvoQUv eig ev ei8oc;), то есть искусство образования понятий как вырабатывания мнений, общих для собеседников. Беседу — в противоположность застывшей форме высказывания, стремящегося к письменной фиксации, — характеризует как раз то, что здесь по мере того, Как собеседники спрашивают и отвечают, дают и берут, ie слушают друг друга, договариваются друг с другом, 1зык осуществляет ту смыслокоммуникацию, в искусной Наработке каковой и состоит задача герменевтики, применительно к литературному преданию. Поэтому если герменевтическая задача понимает самое себя как вступ-|ение-в-беседу с текстом, то это нечто большее, чем простая метафора, это — напоминание об изначальном. Тот факт, что истолкование, выполняющее эту задачу, осуществляется в языковой форме, означает не пересадку в какую-то чуждую среду, а, напротив, восстановление изначальной смыслокоммуникации. Пере-данное нам в литературной форме возвращается тем самым из отчуждения, в котором оно пребывает, в живое «сейчас» разговора, изначальной формой осуществления которого всегда является вопрос и ответ.
Таким образом, выдвигая на передний план связь герменевтического феномена с понятием вопроса, мы можем сослаться на Платона. У нас тем больше оснований для этого, что герменевтический феномен определенным образом обнаруживается уже у самого Платона. Кго критику письменности следовало бы рассмотреть еще и с той точки зрения, что здесь возвещает о себе происходивший в то время в Афинах процесс превращения поэтического и философского предания в литературу. Мы видим, что практикуемая софистами «интерпретация» текстов, особенно интерпретация поэзии в учебных целях, вызывает у Платона отклоняюще-негативную реакцию. Мы видим далее, что Платон стремится преодолеть слабость «логосов», в особенности письменных, своей собственной диалогической поэзией. Литературная форма диалога вновь Iпогружает язык и понятие в исконное движение живой беседы. Слово предохраняется тем самым от всех догматических злоупотреблений.
Исконность беседы сказывается также и в производных формах, в которых соответствие вопроса и ответа остается прикрытым. Так, к примеру, переписка есть весьма интересный переходный феномен, своего рода письменный
разговор, который как бы растягивает во времени движение перебивания-друг-друга и договаривапия-друг-с-другом. Искусство переписки заключается в том, чтобы не превращать письменное высказывание в ученый труд, но делать его в расчете на получение и восприятие корреспондентом. С другой стороны, однако, оно заключается также и в том, чтобы сообщить сказанному ту меру окончательности, которая присуща ему в письменном виде. Но временная дистанция, отделяющая отправку письма от получения ответа, есть не просто какой-то внешний фак тор; она накладывает свой отпечаток на само существо той формы коммуникации, какой является корреспонденция в качестве особенной формы письменности. В этом смысле очень характерно, что ускорение почтовых сообщений привело вовсе по к интенсификации этой формы коммуникации, а, напротив, к упадку самого искусства писать письма.
Исконность беседы как взаимосвязанности вопроса с ответом проявляется и в таком экстремальном случае, каким является гегелевская диалектика в качество философского метода. Развернуть тотальность мыслительных определений, к чему стремилась логика Гегеля, — это как бы попытка схватить в громадном монологе выработанного Новым временем «метода» смысловой континуум, партикулярную реализацию какового осуществляет в каждом данном случае разговор между собеседниками. Если Гегель ставит себе задачу растворить и одухотворить абстрактные мыслительные определения, то это значит: вновь превратить логику в свершающийся язык, понятие — в сильное своим смыслом, спрашивающее и ответствующее ело во; все это служит напоминанием о том, чем, собственно, была и осталась диалектика, напоминанием, величественным даже в своей неудаче. Диалектика у Гегеля суп, монолог мышления, монолог, стремящийся с ходу осуществить то, что во всяком подлинном разговоре вызревает постепенно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

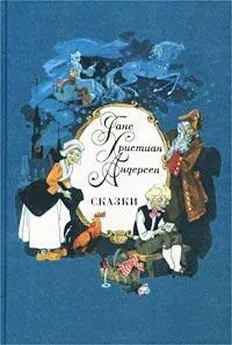
![Ганс Андерсен - Ганс Чурбан[другой перевод]](/books/569895/gans-andersen-gans-churban-drugoj-perevod.webp)