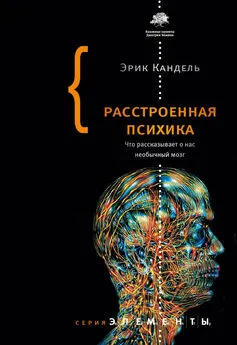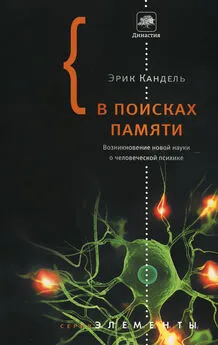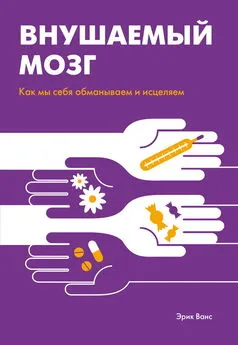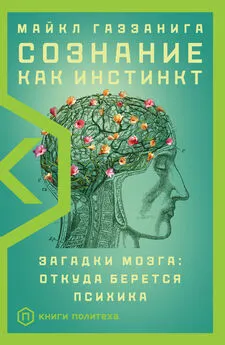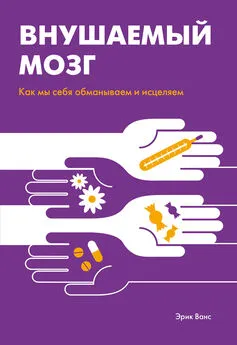Эрик Кандель - Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг
- Название:Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Corpus
- Год:2021
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-119013-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрик Кандель - Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Системную биологию принятия решений наглядно продемонстрировали исследования бессознательных эмоций, сознательных чувств и их телесного выражения. До конца XIX века считалось, что эмоции рождаются в результате определенной последовательности событий: человек распознаёт пугающую ситуацию, это вызывает сознательное переживание страха в коре головного мозга, а страх запускает бессознательные изменения в вегетативной нервной системе, в результате чего учащается сердцебиение, сужаются кровеносные сосуды, повышается кровяное давление и на ладонях выступает пот.
Как мы узнали, в 1884 году Уильям Джеймс опроверг это представление. Он понял, что не только мозг общается с телом, но и тело общается с мозгом, и это не менее важно. Джеймс предположил, что мы сознательно переживаем эмоцию после физиологической реакции тела. Таким образом, увидев медведя, сидящего у нас на пути, мы не оцениваем свирепость зверя сознательно и не решаем испугаться, а инстинктивно убегаем прочь, лишь позже переживая осознанный страх.
Недавно три независимые группы исследователей подтвердили теорию Джеймса 153,154 . С помощью нейровизуализации они выявили функции передней доли островка – небольшого участка коры головного мозга, находящегося между теменной и височной долями. Именно в островке происходит репрезентация наших чувств, то есть осознание телесной реакции на эмоциональные стимулы. Островок не только оценивает и интегрирует эмоциональную и мотивационную важность этих стимулов, но и координирует внешнюю сенсорную информацию и внутренние мотивационные состояния. Такое осознание телесных состояний становится мерилом эмоционального самосознания, чувства “я есть”.
Пионер нейробиологии эмоций Джозеф Леду, с которым мы познакомились в главе 8, обнаружил, что стимул попадает в миндалевидное тело по одному из двух путей. Первый – быстрый и прямой, обеспечивающий обработку бессознательной сенсорной информации и автоматически устанавливающий связи между сенсорными аспектами события. Второй путь по нескольким каналам посылает информацию в кору головного мозга, в том числе в островок, и может участвовать в сознательной обработке информации. Леду убежден, что совместно прямой и непрямой пути опосредуют как быстрый, бессознательный ответ на ситуацию, так и его последующее сознательное развитие.
Благодаря этим исследованиям у нас появилась возможность проникнуть в мир нашей психики и приступить к изучению взаимосвязи сознательных и бессознательных переживаний. Одни из самых любопытных открытий, касающихся природы сознания, родились в недавних исследованиях, развивающих идеи Джеймса и изучающих сознание через его роль в других психических процессах. Например, дополненные нейровизуализацией эксперименты Эллиотта Уиммера и Дафны Шохами показали, что те же самые механизмы в гиппокампе, которые участвуют в сознательном обращении к памяти, могут управлять бессознательными решениями и делать их предвзятыми 155 .
Уиммер и Шохами выстроили эксперимент следующим образом. Сначала они показывали участникам серию спаренных изображений. Затем разделяли изображения и прибегали к технике обусловливания: показ некоторых изображений сопровождали денежным вознаграждением. Наконец, они предъявляли изображения, которые не были связаны с денежным вознаграждением, и спрашивали участников, какие из них они предпочитают. Многие испытуемые выбирали те изображения, которые раньше были спарены с вознаграждаемыми, хотя сознательно они не могли вспомнить исходные пары. Ученые сделали вывод, что гиппокамп способен активировать ассоциацию актуального изображения с его исходной парой и, работая в тандеме с полосатым телом, связывать картинку с воспоминанием о награде, тем самым предопределяя выбор участника.
Когда участие биологии в принятии решений стало очевидным, Уильям Ньюсам и другие нейробиологи начали на клеточном уровне применять экономические модели к животным, надеясь понять принципы принятия решений. Тем временем экономисты бросились включать результаты их исследований в свои экономические теории.
Нейробиологи далеко продвинулись в анализе процесса принятия решений, изучая отдельные нервные клетки приматов. Ключевой стала находка, описанная Майклом Шедленом: оказалось, что нейроны в ассоциативных зонах коры, вовлеченные в принятие решений, реагируют на стимулы совершенно иначе, чем нейроны в сенсорных зонах. Сенсорные нейроны реагируют на актуальный стимул, в то время как ассоциативные дольше остаются активными – вероятно, из-за участия в механизме, связывающем восприятие с ориентировочным планом действий 156 .
Результаты Шедлена говорят о том, что ассоциативные нейроны тщательно отслеживают вероятности, сопряженные с выбором. Например, по мере того как обезьяна видит все больше свидетельств, что правая мишень выдаст награду, нейронная активность, отвечающая за выбор правой мишени, усиливается. Это позволяет обезьяне накапливать свидетельства и делать выбор, когда вероятность его правильности превышает определенный порог – скажем, 90 %. Возбуждение нейронов и обусловленное им принятие решения могут происходить очень быстро – часто на это уходит меньше секунды. Таким образом, в удачных обстоятельствах даже поспешные решения могут быть почти оптимальными. Это может объяснять, почему быстрая, бессознательная система мышления 1 уцелела в ходе эволюции: хоть в одних обстоятельствах она и склонна к ошибкам, в других демонстрирует высокую адаптивность.
Психоанализ и новая биология психики
В первой половине XX века психоанализ помог нам узнать гораздо больше о бессознательных психических процессах, психическом детерминизме, детской сексуальности и – что, возможно, важнее всего – иррациональной природе человеческой мотивации. Этот подход был таким новым и действенным, что многие годы не только Фрейд, но и другие умные и изобретательные психоаналитики могли утверждать, что сеансы психотерапии предоставляют наилучший контекст для научного изучения человеческой психики.
Однако успехи психоанализа во второй половине века уже не были столь впечатляющими. Хотя психоаналитическое мышление неустанно совершенствовалось, новых блестящих открытий было не так уж много. Важнее всего – и печальнее всего, – что психоанализ не получил научного развития. В частности, в его рамках так и не появилось объективных методов проверки собственных идей, порой сильно будоражащих умы. В результате психоанализ вступил в XXI век в состоянии упадка.
Что же привело к этому прискорбному упадку? Во-первых, психоанализ исчерпал свою исследовательскую силу. Фрейд внимательно слушал своих пациентов – и слушал их по-новому. Он также предложил приблизительную схему, помогающую понимать их ассоциации – такие непоследовательные и бессвязные на первый взгляд. Сегодня, однако, вряд ли можно продвинуть теорию на новый качественный уровень, просто внимательно слушая отдельных пациентов. Более того, клиническое наблюдение пациентов в контексте, столь располагающем к систематической ошибке наблюдателя, как отношения психоаналитика и пациента, нельзя считать солидным основанием для науки о психике.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: