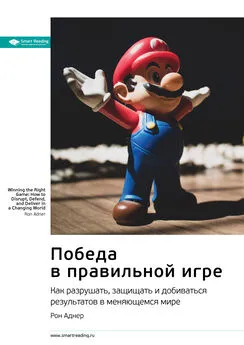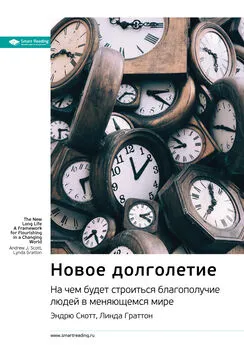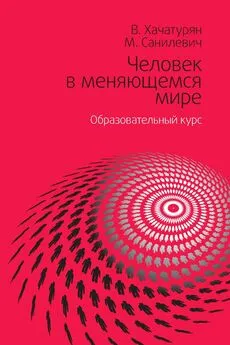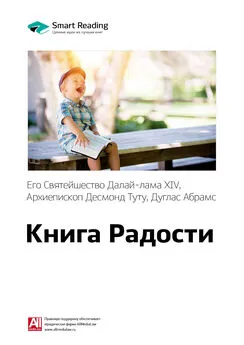Игорь Кон - Мужчина в меняющемся мире
- Название:Мужчина в меняющемся мире
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-0397-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Кон - Мужчина в меняющемся мире краткое содержание
В настоящее время во всем мире много говорят о кризисе маскулинности и о том, что происходит с мужчинами. Слова о феминизации мужчин, ослаблении отцовства и т. п. буквально не сходят со страниц массовых изданий. Однако зачастую теоретические споры не основываются на тщательном изучении фактов, а судьба России рассматривается так, будто она существует сама по себе, отдельно от остального человечества. В этой книге известный российский социолог И. С. Кон пытается прежде всего корректно сформулировать возникшие проблемы. Что значит кризис маскулинности? Как и почему меняются наши представления о маскулинности? Какие глобальные вызовы стоят перед современными мужчинами, способны ли они с ними справиться и как эти общие проблемы решаются в России? Книга основана на результатах новейших мировых социологических, психологических и антропологических исследований. В ней нет технических деталей, но она рассчитана на вдумчивое чтение и самостоятельное размышление и может быть использована в качестве пособия по социологии, гендерным исследованиям, социальной антропологии и психологии.
Мужчина в меняющемся мире - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Оборотной стороной и естественным следствием идеологической бесполости является сексизм: при отсутствии общественно-научной рефлексии по поводу половых/гендерных категорий все эмпирически наблюдаемые различия между мужчинами и женщинами, с которыми каждый сталкивается в своей обыденной жизни, интерпретируются как извечные, биологически предопределенные. Для этого необязательно даже быть консерватором.
Начиная с 1970-х годов в СССР росла и ширилась оппозиция против самой идеи женского равноправия. Мужчины болезненно переживали неопределенность своего социального статуса, а женщины чувствовали себя обманутыми, потому что оказались под двойным гнетом. Отсюда – мощная волна консервативного сознания, мечтавшего вернуться к временам не только досоветским, но и доиндустриальным. В 1970 г. «Литературная газета» напечатала интервью с Валентиной Леонтьевой, популярнейшим диктором Центрального телевидения, которая сказала, что главная ценность ее жизни – работа. После этого один разгневанный мужчина написал, что если раньше он восхищался Леонтьевой, то теперь понял, что она вообще не женщина, и потому впредь при появлении ее на экране будет выключать телевизор…
Трудное положение женщин вовсе не означало, что хорошо жилось мужчинам. «После десятков вечеров, проведенных с затурканными, подбашмачными мужчинами и множеством суперженщин, я пришла к выводу, что Советский Союз, возможно, нуждается не только в женском, но ив мужском освободительном движении. Я проверила эту идею на нескольких своих знакомых, и она была хорошо принята», – написала известная американская журналистка (Du Plessix Gray, 1989. P. 48).
По образному выражению Виктора Ерофеева, «мужчина состоит из свободы, чести, гипертрофированного эгоизма и чувств. У русских первое отняли, второе потерялось, третье отмерло, четвертое – кисель с пузырями» (Ерофеев, 1999. С. 82). При всех этнических, религиозных и исторических вариациях традиционный канон маскулинности всегда и везде включает такие черты, как энергия, инициатива, независимость и самоуправление.
Экономическая неэффективность советской системы в сочетании с политическим деспотизмом и бюрократизацией общественной жизни оставляла мало места для индивидуальной инициативы и независимости. Чтобы добиться экономического и социального успеха, нужно было быть не смелым, а хитрым, не гордым, а сервильным, не самостоятельным, а конформным. С раннего детства и до самой смерти советский мужчина чувствовал себя социально и сексуально зависимым и ущемленным.
Социальная несвобода усугублялась глобальной феминизацией институтов социализации и персонифицировалась в доминантных женских образах. Это начиналось с раннего детства в родительской семье. Из-за высокого уровня нежеланных беременностей и огромного количества разводов каждый пятый ребенок в СССР воспитывался без отца или хотя бы отчима. Да и там, где отец физически присутствовал, его авторитет в семье и роль в воспитании детей, как правило, были значительно ниже, чем авторитет и роль матери.
В детском саду и в школе главные властные фигуры – опять-таки женщины. В официальных подростковых и юношеских организациях (пионерская организация, комсомол) тон задавали девочки (среди секретарей школьных комсомольских организаций они составляли три четверти) (Кон, 1989). Мальчики и юноши находили отдушину только в неформальных уличных компаниях, где власть и символы были исключительно мужскими.
После женитьбы молодому мужчине приходилось иметь дело с любящей, заботливой, но часто доминантной женой, которая, как некогда его мама, лучше него самого знает, как планировать семейный бюджет и что нужно для дома, для семьи. А в общественно-политической жизни все контролировалось властной «материнской» заботой КПСС. Единственным исключительно мужским институтом была армия. Считалось, что стать «настоящим мужчиной», не пройдя армейскую школу, нельзя.
Такой стиль социализации, не совместимый ни с индивидуальным человеческим достоинством, ни с традиционной моделью маскулинности, вызывал противоречивые психологические реакции.
На идеологическом уровне тоска по мужскому началу способствовала трансформации образа отсутствующего реального отца в характерный для всякого тоталитарного сознания (так было и в нацистской Германии) мифологизированный образ Вождя, Отца и Учителя. Ниже располагались идеализированные образы коллективной маскулинности, мужского, особенно воинского, товарищества и дружбы. Принадлежность к коллективному мужскому телу психологически компенсирует мужчине его слабость и несамостоятельность в качестве отдельного индивидуума: каков бы я ни был сам по себе, в рамках группового «мы, мужики» я силен и непобедим. «Русский мужчина-конь скачет, скачет, его несет, он сам не понимает, куда он скачет, зачем и сколько времени он скачет. Он просто скачет себе, и всё, он в табуне, у него алиби: все скачут, и он тоже скачет» (Ерофеев, 1999. С. 10).
Недостаток у мужчин решительности в любовных отношениях констатируют лучшие советские фильмы 1970—1980-х годов («Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Осенний марафон», «Блондинка за углом»), в которых присутствуют «маскулинные, сильные, но неудовлетворенные, ищущие „настоящего мужчину“ женщины и убегающие, прячущиеся мужчины» (Белов, 2000).
Несоответствие собственного поведения нормам гегемонной маскулинности требовало какой-то психологической компенсации. На семейно-бытовом уровне эта компенсация и гиперкомпенсация имела несколько вариантов:
а) идентификация с традиционным образом сильного и агрессивного мужика, утверждающего себя пьянством, драками, жестокостью, членством в агрессивных мужских компаниях, социальным и сексуальным насилием;
б) покорность и покладистость в общественной жизни компенсируются жестокой тиранией дома, в семье, по отношению к жене и детям;
в) социальная пассивность и связанная с нею выученная беспомощность компенсируются бегством от личной ответственности в беззаботный игровой мир вечного мальчишества (социальный инфантилизм). Не выучившись в детстве самоуправлению и преодолению трудностей, такие мужчины навсегда отказываются от личной независимости, а вместе с нею – от ответственности, передоверяя социальную ответственность начальству, а семейную – жене.
Однако при любом раскладе люди испытывали неудовлетворенность, которая так или иначе преломлялась в советской массовой культуре. При всем тоталитаризме, а затем авторитаризме советского общества его гендерный порядок и, тем более, дискурс никогда не были ни единообразными, ни неизменными (Здравомыслова, Темкина, 2007б).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



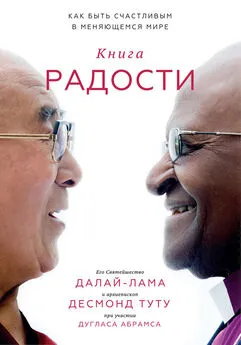
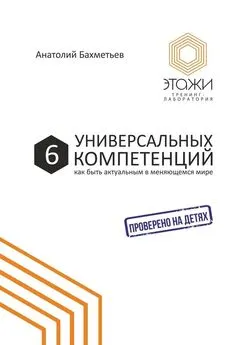
![Эндрю Скотт - Новое долголетие [На чем будет строиться благополучие людей в меняющемся мире]](/books/1061468/endryu-skott-novoe-dolgoletie-na-chem-budet-stroit.webp)