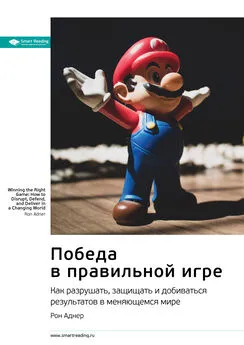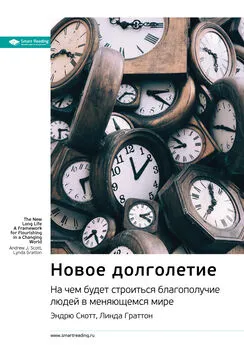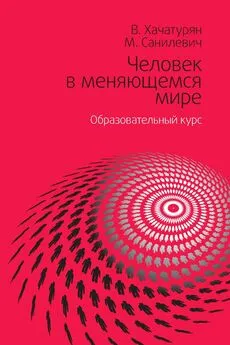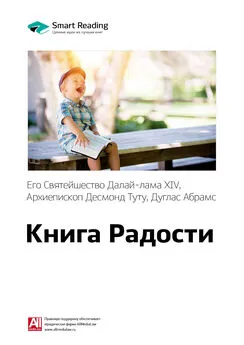Игорь Кон - Мужчина в меняющемся мире
- Название:Мужчина в меняющемся мире
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-0397-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Кон - Мужчина в меняющемся мире краткое содержание
В настоящее время во всем мире много говорят о кризисе маскулинности и о том, что происходит с мужчинами. Слова о феминизации мужчин, ослаблении отцовства и т. п. буквально не сходят со страниц массовых изданий. Однако зачастую теоретические споры не основываются на тщательном изучении фактов, а судьба России рассматривается так, будто она существует сама по себе, отдельно от остального человечества. В этой книге известный российский социолог И. С. Кон пытается прежде всего корректно сформулировать возникшие проблемы. Что значит кризис маскулинности? Как и почему меняются наши представления о маскулинности? Какие глобальные вызовы стоят перед современными мужчинами, способны ли они с ними справиться и как эти общие проблемы решаются в России? Книга основана на результатах новейших мировых социологических, психологических и антропологических исследований. В ней нет технических деталей, но она рассчитана на вдумчивое чтение и самостоятельное размышление и может быть использована в качестве пособия по социологии, гендерным исследованиям, социальной антропологии и психологии.
Мужчина в меняющемся мире - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 60-е культ общения распространился на все структуры общества^ Эпоха, когда несерьезное стало важнее серьезного, когда досуг преобразовался в труд, когда дружба заменила административную иерархию, трансформировала и всю систему социально-культурных жанров
(Вайль, Генис, 1998. С. 69, 71).Центр мужских интересов и связей переместился из политических и трудовых структур в туристические походы, альпинизм, романтику дальних странствий. Это ярко проявляется в авторской песне 1960—1980-х годов:
А от дружбы что же нам нужно?
Чтобы сердце от нее пело,
Чтоб была она мужской дружбой,
А не просто городским делом.
«Песня о друге» Владимира Высоцкого сформулировала идеал целого поколения мужчин, даже тех, которые никогда не забирались в горы, не сидели у таежного костра и не переживали ничего экстремального. Мужчина этого типа не пытается изменить социальный мир, но отвергает его господствующие ценности и от него уходит. Куда и как – не столь важно. Может быть, просто «за туманом и за запахом тайги». Его антиподом является приземленный и бескрылый «обыватель». Используемая для построения такого типа личности негативная идентификация основана «не на прямом оппонировании официальному дискурсу, а на латентном сопротивлении. Она выражается
– в дистанцировании от советского города как символа публичности;
– в неучастии в праздновании официальных советских праздников (7 ноября, Первомай);
– в отрицании официальной культуры и попытке создания собственной, альтернативной;
– в акценте на антипотребительском характере стиля жизни» (Чернова, 2002а. С. 476).
Романтическая маскулинность допускала множество вариаций отношения к женщине, от фактического исключения ее из мужского сообщества до всеобъемлющей страстной любви (кстати, одно вовсе не противоречит другому), привилегированных сфер самореализации и предпочитаемых способов художественного самовыражения (достаточно сравнить песни Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Вадима Егорова и Александра Городницкого). В дальнейшем из нее вырастали очень разные по духу и стилю молодежные субкультуры. Их общность состояла в том, что, не будучи анти советскими, все они были несоветскими, именно в этом была их притягательность, и за это их преследовали.
Поскольку открытой политической оппозиции в СССР не было, идеологическая полемика, иногда по недомыслию, а иногда сознательно, концентрировалась на внешних, второстепенных моментах, таких как форма одежды или прически. В этом смысле очень интересна история советского мужского телесного канона (Кон, 2003б). Подобно фашистскому телу, советское мужское тело обязано было быть исключительно героическим или атлетическим. Соревновательные игры, неразрывно связанные с воинскими занятиями, предполагают культ сильного, тренированного мужского тела. Исследователи советской массовой культуры 1930-х годов обращают внимание на обилие обнаженной мужской натуры – парады с участием полуобнаженных гимнастов, многочисленные статуи спортсменов, расцвет спортивной фотографии и кинохроники. В фильмах о парадах физкультурников 1937 и 1938 годов «Сталинское племя» и «Песня молодости» на атлетах надеты только белые трусы, а самих атлетов тщательно отбирали по экстерьеру. Культовый Дворец Советов, который так и не был построен, должны были украшать гигантские фигуры обнаженных мужчин, шагающих с развевающимися флагами. Военно-спортивная тематика, наряду с портретами вождей, безраздельно господствовала и в советской скульптуре. В конце 1970-х годов тайну государственной маскулинности разоблачил Игорь Губерман:
Я государство вижу статуей:
мужчина в бронзе, полный властности,
под фиговым листочком спрятан
огромный орган безопасности.
Образ спортсмена , особенно в соревновательных коллективных видах спорта, таких как футбол или хоккей, был одним из самых популярных и культовых в советском кино и изобразительном искусстве. Он позволял утверждать официальные мужские военно-патриотические ценности (физическую силу, смелость, соревновательность, готовность к самопреодолению и одновременно – коллективизм, дисциплинированность, готовность подчинять личные амбиции интересам команды и всего общества) в более приемлемой и общедоступной форме, чем это можно было сделать при изображении армейских будней. Однако здесь тоже были свои ограничения. Из-за воинствующей большевистской сексофобии имманентный всякому тоталитарному сознанию фаллоцентризм в СССР не мог проявляться открыто. Молодой человек должен быть готов к труду и обороне, но сексуальность ему категорически противопоказана. Отсюда – многочисленные запреты на наготу, которые в равной мере распространялись на оба пола и действовали как в изобразительном искусстве, так и в быту.
Особенно большие подозрения вызывали мужские ноги. В конце 1950-х годов в СССР впервые появились шорты, но, чтобы носить их даже на курортах Крыма и Кавказа, требовалось мужество. По распоряжению местных властей мужчин в шортах не обслуживали ни в магазинах, ни в столовых, ни в парикмахерских. Увидев за рулем автомобиля водителя в шортах, милиция могла остановить машину и потребовать, чтобы человек переоделся. Местные жители говорили, что шорты оскорбляют их нравственные чувства. В Москве и в Ленинграде шорты постепенно стали привилегией иностранцев, россияне же завоевали это право только после крушения Советской власти.
Другим объектом гонения были длинные волосы. В 1970-х годах во многих городах административно преследовали юношей и молодых мужчин с длинными волосами и женщин в джинсах или брючных костюмах. В Ленинграде милиционеры и дружинники прямо на улице хватали длинноволосых юношей, всячески оскорбляли их, насильственно стригли, а затем фотографировали и снимки, с указанием фамилий и места работы или учебы, выставляли на уличных стендах, под лозунгом: «Будем стричь, не спрашивая вашего согласия». Увидев такой стенд в своем родном Московском районе, я позвонил первому секретарю райкома партии, и у нас произошел такой разговор.
– Галина Ивановна, то, что вы делаете, – уголовное преступление. Дружинники, насильственно стригущие юношей, ничем не отличаются от хулиганов, обстригающих косы девушке. Это грубое насилие.
– Длинные волосы – некрасиво, мы получаем благодарственные письма от учителей и родителей.
– Если бы вы устраивали публичные порки, благодарностей было бы еще больше. Между прочим, длинные волосы носили Маркс, Эйнштейн и Гоголь. Их вы тоже обстригли бы?
– Они сейчас стриглись бы иначе. Кроме того, дружинники стригут только подростков.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



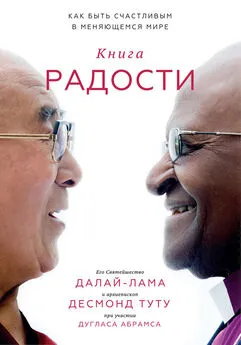
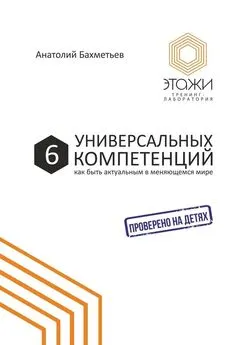
![Эндрю Скотт - Новое долголетие [На чем будет строиться благополучие людей в меняющемся мире]](/books/1061468/endryu-skott-novoe-dolgoletie-na-chem-budet-stroit.webp)