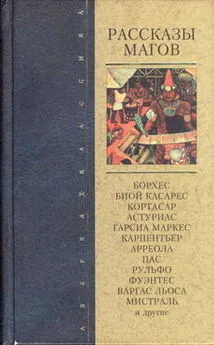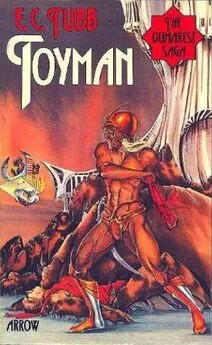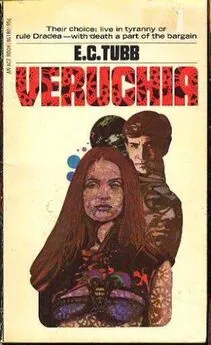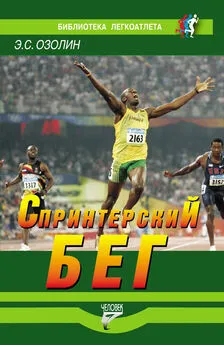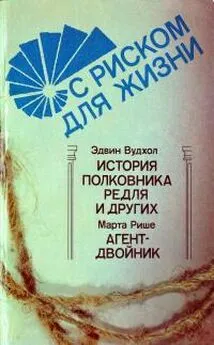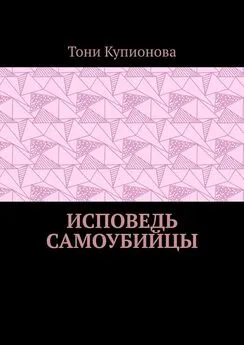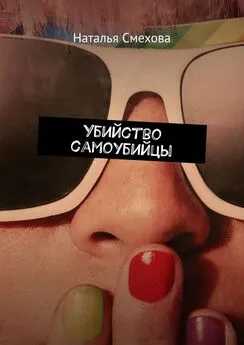Эдвин Шнейдман - Душа самоубийцы
- Название:Душа самоубийцы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Смысл
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:0-19-510366-1, 5-89357-058-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдвин Шнейдман - Душа самоубийцы краткое содержание
Автор книги Эдвин Шнейдман — ведущий американский суицидолог, основатель и руководитель ряда центров исследований и профилактики самоубийств в США и основатель Американской Ассоциации Суицидологии, автор множества статей и книг. В данной книге предпринимается попытка по-новому рассмотреть суицидальные явления и их психологические корни. В книгу включена выходившая отдельно научная автобиография Э. Шнейдмана «Жизнь в смерти» [Lives & Deaths: Selections from the Works of Edwin S. Shneidman, 1999].
Практическим психологам, психиатрам и всем, кого волнует проблематика самоубийств.
Душа самоубийцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Представленные описания, по-моему, раскрывают внутреннюю сущность самоубийства гораздо лучше, чем это мог бы сделать самый опытный специалист; они поэтично и проникновенно описывают боль, страдание, отчаяние, амбивалентность, сужение сознания — словом, все составные элементы суицидальной драмы. В моей работе исходным материалом всегда являлись свидетельства самих пациентов.
Прилагая усилия к познанию сущности добровольного ухода из жизни, в первую очередь к выяснению вопроса: «Почему они избрали самоуничтожение?», — я неизменно стремился разобраться в предсмертных записках самоубийц. В 1949 году моей первоначальной реакцией на обнаружение большого числа предсмертных записок был несколько преувеличенный энтузиазм. (Гарри так и называл меня «отъявленным энтузиастом»). В то время я был уверен и утверждал (перед самим собой и коллегами), что они являются тем же, чем для З. Фрейда были сны пациентов. Они представляют собой торный путь к познанию глубочайших причин (а следовательно, к пониманию) феномена самоубийства. Однако спустя почти четверть века моих целенаправленных усилий и напряженной работы других исследователей искомая гавань так и не была достигнута. Я был до крайности разочарован тем, чего удалось добиться, анализируя эти записки. Однажды, принимая душ, я внезапно признался себе в одной тайне: многие послания самоубийц порождали скуку; они были банальными; из них следовало очень мало нового, поскольку мало о чем сообщалось. И тут меня озарило: эти записки просто не могут являться полными и всеобъемлющими документами по самой своей природе, ибо написаны в состоянии суженного сознания. В самом деле, если бы человек был в силах оставить после себя всесторонний, исчерпывающий и психодинамически ясный документ, то ему не требовалось бы совершать самоубийства. С самого начала я оказался в дураках, напрасно ожидая красноречия от полунемого. Тогда-то я сел и написал статью «Повторные раздумья над предсмертными записками» (Shneidman, 1973 b), послал ее в журнал «Психиатрия» и через несколько месяцев увидел опубликованной. Мне до сих пор нравится энтузиазм и живость языка этой работы, но сегодня я почти полностью не согласен с ее выводами. Она мне кажется любопытным примером того, что Гегель называл антитезисом, то есть переходом (в этом случае, кроме прочего, весьма внезапным) к прямой противоположности исходно сформулированного взгляда. Тезис: предсмертные записки обладают поистине магическими свойствами. Антитезис: они совершенно бесполезны. Разумеется, меня не приводила в восторг и такая точка зрения.
Ключ, разрешавший возникшие противоречия, уже лежал перед моими глазами, когда я в 1969—1970 годах в Исследовательском центре Стэнфорда проводил изучение суицидальных тенденций среди одаренных людей, входивших в проект Термана. Спустя десять лет, во время работы над «Голосами смерти», у меня возникла мысль их ретроспективного изучения с привлечением анализа предсмертных записок. И тут случилось чудо: когда я поместил их в «контекст целостной жизни», они ожили. Почти каждое слово в них соответствовало какой-либо детали жизненного стиля, склонности к определенному виду фрустрации или основной теме жизни именно этого человека. Вот тут-то произошел гегелевский синтез: сами по себе предсмертные записки не являются альфой и омегой, но рассмотренные в контексте жизни, часть которой они, несомненно, представляют, они могут стать немало проясняющими и полезными документами.
«Голоса смерти» — книга, основанная на личных документах, письмах, дневниках, предсмертных записках, а также на историях моих пациентов. Она написана о людях, которые покончили с собой, не по своей воле ушли из жизни из-за смертельной болезни или были замучены жестокими садистами.
Многие годы у меня хранились сотни предсмертных записок и несколько дневников, но книгу я начал писать только после того, как один из студентов ознакомил меня с материалами, полученными им в Освенциме. Эти документы, обнаруженные в 1960 годы, были закопаны в стеклянных или жестяных банках неподалеку от газовых камер и печей. Моя решимость написать об этих материалах еще более окрепла, когда Евгений Лейбл (бывший чехословацкий государственный деятель, проведший 11 лет в сталинских застенках, а затем эмигрировавший в США) передал мне несколько писем, принадлежавших перу Владимира Клементиса, который в 1948 году был министром иностранных дел Чехословакии. Он написал их в сталинской тюрьме незадолго до того, как был повешен в 1952 году после завершения антисемитского процесса по делу Сланского 19.
У меня также хранились письма, написанные гражданами нацистской Германии (евреями и представителями других национальностей) непосредственно перед казнью. Во время работы над книгой «Голоса смерти» бывали мгновения, когда мне не удавалось сдерживать слезы, а некоторые из документов оказались настолько впечатляющими и личными, что я не посмел цитировать их. Но эта книга посвящена также и героизму «простых» жертв рака и отчаянию, испытываемому «обыкновенными» самоубийцами. По-моему, она является неплохим реалистическим приложением к эвристической монографии Гордона Олпорта «Использование личных документов в психологической науке» (Allport, 1942).
Итак, я продолжал работать в Университете Лос-Анджелеса. Был счастлив, как, впрочем, и на протяжении большей части своей жизни. Метеорологически рассуждая, в течение 20 лет, которые я провел в этом университете, над моей головой не собиралось почти никаких грозовых туч.
Можно заметить, что я стремлюсь аттестовать (или, по крайней мере, описать) себя посредством опубликованных работ. Этот подход представляется мне наиболее точным и приемлемым. Поэтому я хотел бы рассказать еще о четырех книгах, две из которых принадлежат перу других людей, третья является моей любимой работой как редактора и последняя — книгой, которую я написал сам.
Меня безмерно радует та роль катализатора, которую я сыграл в работе Антона Линарса «Предсмертные записки самоубийц» (Leenaars, 1988) и к которой написал предисловие. В свое время я принялся было писать книгу, посвященную этой теме, но потом понял, что Антон сумеет справиться с задачей быстрее меня. Кроме того, ему удалось более продуктивно и изящно, чем мне, обобщить работы Адлера, Бинсвангера, Фрейда, Юнга, Келли, Меннингера, Мюррея, Салливана, Зилбурга и мои собственные в области суицидологии. Другая книга принадлежит Джеку Каммерману, который исследовал вдов, детей и внуков 93 полицейских Нью-Йорка, покончивших с собой с 1934 по 1940 год. Моей мечтой всегда было написать предисловие к этой работе, названной «Суицидальное наследство». Сегодня я рассматриваю ее как имеющую непосредственное отношение к психологической проблеме генеративности (в понимании Э. Эриксона), а именно: оставить следующему поколению возможность сделать нечто, что могло быть осуществлено предыдущим. Сейчас я могу вполне откровенно сказать, что наслаждаюсь работами Динара и Каммермана как своими собственными.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: