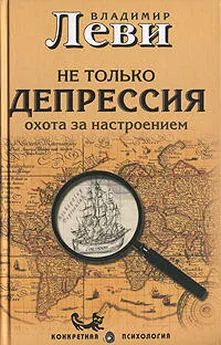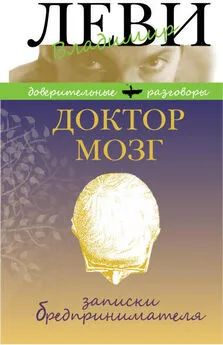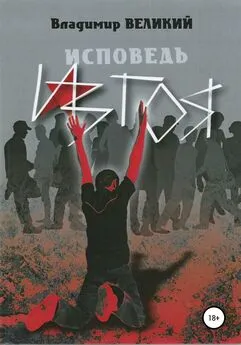Владимир Леви - Исповедь гипнотезера
- Название:Исповедь гипнотезера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Леви - Исповедь гипнотезера краткое содержание
Владимир Леви помог выжить — физически и душевно — многим и многим. Его имя почти легенда: врач, писатель, поэт, музыкант, учёный, художник…
Автор, можно сказать элитарный — и в то же время редкостно популярный у самого массового читателя. Его книги («Охота за мыслью», «Я и Мы» «Искусство быть собой», «Разговор в письмах», «Везёт же людям», «Цвет судьбы», «Нестандартный ребёнок»), изданные на 23 языках, всегда расходились мгновенно. Эти книги работают как лекарства, их читают и как учебники, и как романы, поэмы; они спасают, оздоровляют, выводят из тупиков.
Здесь, в трехтомнике, — в новой переработке прежнее и совсем новое, не издававшееся.
Владимир Леви продолжает работать.
Исповедь гипнотезера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
(14)
Совпадения? Просто совпадения, каких уймы, самых фантастических совпадений?.. Согласен: да, совпадения. Но вот только что это просто совпадения — с этим не соглашаюсь. Ничего не значащих совпадений не может быть — каждое совпадение О ЧЕМ-ТО дает нам знать. Я не смогу сейчас выразить это более четко, но верю, что это будет доказано Теорией Сверхизмерений, которая объяснит телепатию и ясновидение.
(15)
Люблю живое в литературе — дыхание, голос, смех, пульс, мускул, запах строки.
Непереводимое, недолговечное… Не долго, но вечное!
Часто ловил себя на поразительной внутренней ПУСТОТЕ, совершеннейшем отсутствии какого-либо содержания — в голове, в душе… Казалось, что я и всегда такой. Что нет во мне ничего, не было и не будет.
Но переполненность ИНЫХ мгновений, когда, наоборот, слишком плотно!!!
Дошло, наконец. Пустотность есть свойство внутреннего наоборотного зеркала: заглядываешь — изображение исчезает.
(16)
В сфере идей (не путать с идеологией) я всегда был отъявленным коммунистом — не признавал никакой собственности, просто не чувствовал. Спокойно и радостно брал чужое и позволял брать свое. Мечтаю быть разворованным до последней ниточки. Собственнический инстинкт в сфере духа должен быть вытравлен, иначе придется остаться зверьми. Чем духовней, чем выше — тем меньше частного. Кто, в самом деле, осмелится утверждать свою собственность на Бога? Есть, однако, такие универсально ревнивые личности, которые и к Богу относятся как к персональной зубной щетке.
Отсюда и идеал Анонимности Добра, к которому я пришел путем множества откровенных духовных краж.
(17)
Но — возвращаясь к Интроспекции — совершенно необходимо, чтобы заимствуемое уже было своим. Пушкин весь состоит из заимствований, обворовал всех и вся, но у него нет ничего чужого, ни капельки. Мысль или чувство, выраженные другим, его слово, его острота, его сумасшествие, его глупость — все это и любое прочее должно давать, при правильном восприятии, некий знак тождества. Знак может иметь подобие восторга, благоговения, смеха, спокойного согласия, ужаса — много разных, в том числе зависть, белая или в крапинку. И вот, когда он только появляется, этот знак — всё это твое, пользуйся как душе угодно. В худшем случае будет вторичность, которой то и дело грешили и величайшие — а в европейской поэзии, наверное, все после Гомера. Но если нет знака — а ты все-таки хапаешь из практических соображений, то тогда ты есть вор, плагиатор, подлец, душегубец — и всего того хуже — бездарь. Случись чудо, что кто-нибудь по-своему напишет «Евгения Онегина» — мы должны пасть ниц перед небесами. Только честность перед собой, не проверяемая никем, кроме Бога, может дать санкцию на присвоение или отказ. Идея — особа эмансипированная; горе тому, кто попытается ее приковать.
(18)
Был ли я сам всегда в этом смысле честен? Думаю, не всегда — начинал мелко, опасливо, конъюнктурно, косился по сторонам, и наверняка, не припомню где и когда, приворовывал мимоходом и не свое. Слава Богу — свое все-таки вытащило — головами многих и многих. Сейчас вряд ли стоит в этом копаться, но если кто-нибудь из вас, мною любопытствуя, вдруг наткнется на эдакое дерьмецо — трижды плюньте, сделайте милость. Засекаюсь на этом так дотошливо потому, что хочу перейти к описанию второго своего жизненного метода — противоположного. Обращенность не к своему, а к Другому.
(19)
Но сперва надо попрощаться с собой.
Жажда запечатления, неутолимая жажда, детские рисунки на песке вечности!
Вот чем я болел и болею, вот что унес…
Выпарились волоски честолюбия, эти скок-поскок на ступеньки, это «гений — не гений» («ну конечно, гений, о чем разговор» — «ну ладно, ну и не гений, начхать, много их и так развелось») — со смехом, с остывающим зудом — одним гением меньше. Место на лесенке больше не вопрос. Но остервенелая жажда, но безумная ненависть к небытию! — здесь, сейчас, среди вас — и дальше — хочу остаться! Хочу быть, смеяться, хамить, рычать, изображать!.. Ну что поделать, если отсутствие так беспредельно противно моей природе?..
Всю жизнь пытавшийся быть затворником, имею в виду отсутствие не физическое. Но и физическое тоже — в том, что относится к духовному существу. Вот моя физиономия, пока еще не страшная. Ее очень скоро не будет, ее нет уже, только эти вот плоскенькие фотографии, кинопленки… Ну что?.. Жалко — вот и все, что скажу вам — жалко, как и вон того, совсем маленького, которого не стало еще раньше. Это не сентиментальность, любимые, это восстание. Не знаю, как этот, сейчас бредово строчащий, а вон тот, маленький, за пианино, за книжкой — заслуживает ВСЕГДА БЫТЬ.
Наша истинная любовь к себе — любовь грустная.
Тот, маленький, успел подарить вам несколько рисунков. И я прошу вас за него — их сохранить, иногда рассматривать и показывать, кому интересно. Особенно две картинки — одну карандашную, где много зверюшек (нарисована в 5–6 лет) и другую — акварель, где то ли закат, то ли восход, и грустный человек в лодке (нарисована в 10 лет). Это настоящее. Никакое не творчество.
(20)
Живая прелесть, стремительная сладость умирания, пронзительное очарование! — Кто чувствовал это, как я, тот понимает и смертную ярость. Уберечь, дать жить дальше, запечатлеть хоть как-нибудь! — при чем здесь честолюбие? Простой трепет агонии. Все свое и все не свое — ибо ты умираешь. Любовь к себе священна в той мере, в какой красива.
Цветение агонии. Я был создан, чтобы видеть, слышать, вдыхать, мыслить, двигаться, изобретать, обнимать. Я не был карточным игроком. Какие-то лишние, может быть, клетки, какая-то сверхпроводимость… Видимо, во мне отсутствовали или были ослаблены свойственные большинству природные ограничители, эта легкая примесь здоровой тупости, делающая существование более или мнее переносимым. Не умел ни к чему привыкать, уравновешивался только за счет разума, ненадежно. И вот почему я так долго БОЯЛСЯ живых цветов — некоторые думали, что я их не люблю, я же просто НЕ МОГ ВЫНОСИТЬ, меня пронзали эти крики умирания красоты, и одна роскошная роза вызвала однажды что-то вроде эпилептического припадка. Только с помощью табака, убийцы обоняния, я стал, наконец, более или менее спокойно общаться с цветами; но и теперь мне нужно, что бы их было КАК МОЖНО МЕНЬШЕ — на каждое замкнутое помещение один, самое большое — три цветка или строгих букета…
(21)
Господи, за что одному столько?
Куда девать невместимое?
Возьмите у меня, все возьмите — все это ваше. Раздарить — что еще можно успеть?.. Я в слезах сейчас, потому что не успеваю выразить благодарность, всех помню. Но чтобы назвать, кому я обязан жизнью и счастьем, нужна еще одна жизнь, еще одна бесконечная жизнь…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: