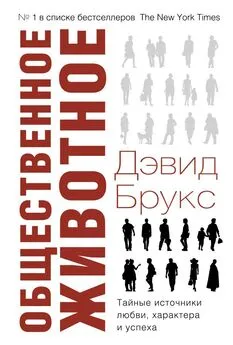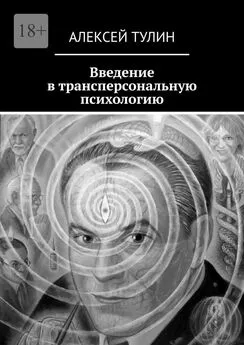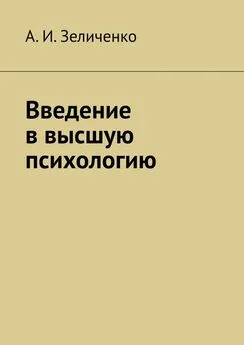Эллиот Аронсон - Общественное животное. Введение в социальную психологию
- Название:Общественное животное. Введение в социальную психологию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эллиот Аронсон - Общественное животное. Введение в социальную психологию краткое содержание
Общественное животное. Введение в социальную психологию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В последующем исследовании Фазио и его коллеги [60]специально повышали доступность аттитьюда, заставляя испытуемых повторно выражать свои мнения или предоставляя испытуемым возможность непосредственно взаимодействовать с объектом аттитьюда. Исследователи постоянно получали одни и те же результаты: легкодоступные аттитьюды могут служить ‹предсказателями› того, каким будет последующее поведение, а менее доступные - нет.
Действия, основанные на восприятии. Есть еще один способ влияния аттитьюдов и убеждений на поведение: убеждение может создать социальный мир, в котором мы живем. Недавний эксперимент Пола Херра иллюстрирует, как это может происходить [61].
Используя словесную игру-головоломку, Херр намеренно увеличил доступность понятия ‹враждебность› для ряда своих испытуемых, и сделал он это с помощью техники формирования установки, которую мы уже обсуждали в этой главе. Испытуемых просили отыскать имена людей, зашифрованные в буквенной матрице. Для одной половины испытуемых это были имена людей, ассоциировавшихся с враждебностью: Чарлз Мэнсон *, Адольф Гитлер, аятолла Хомейни и Дракула **. Другая половина испытуемых искала и находила имена персонажей относительно добрых: Питера Пэна, папы Иоанна Павла II, девочки-кинозвезды Ширли Темпл и Санта-Клауса. Затем испытуемые читали довольно двусмысленное описание некоего Дональда (его поведение могло выглядеть и как враждебное и как невраждебное), после чего они должны были оценить степень враждебности этого человека.
В соответствии с нашими прежними рассуждениями резонно было бы предположить, что различные головоломки окажут свое влияние на суждения испытуемых относительно Дональда. Так, по сравнению с Гитлером и Мэнсоном почти всякий человек будет выглядеть менее враждебным, включая также и Дональда, и, напротив, по сравнению с папой римским и Сан-та-Клаусом почти все будут выглядеть более враждебными, включая также и Дональда. Именно это и обнаружил Херр: испытуемые, у которых формировалась установка на предельно враждебных людей, оценили Дональда как менее враждебного человека, чем те испытуемые, у которых формировали установку на добрых людей ***.
Однако на этом эксперимент Херра не заканчивался. Следующий этап представлял собой некую коллективную игру, причем испытуемые играли в нее с человеком, которого они принимали за Дональда. В процессе игры участникам приходилось выбирать одну из двух стратегий - соревнование или сотрудничество. Так вот, Херр обнаружил, что, когда испытуемые полагали, что играют против ‹враждебного› Дональда, они действовали так, как будто это соревнование, когда же они думали, что играют с ‹добрым› Дональдом, то в этом случае они более тяготели к сотрудничеству. Интересно в этой связи заметить, что испытуемые, наивно исполнявшие роль самого Дональда, вполне адекватно воспринимали степень враждебности своих партнеров.
Суммируя, можно заключить, что в этом эксперименте весьма тонкий контекст оказал влияние на ожидания и мнения людей, а эти ожидания и мнения, в свою очередь, повлияли на их поведение, а впоследствии они повлияли и на следующий цикл восприятия.
Итоги. К каким же выводам можно прийти на основании столь значительного числа исследований взаимосвязи между аттитьюдами и поведением?
Первый и главный вывод состоит в том, что результаты многих исследований аттитьюдов и поведения подчеркивают принцип, с которым мы еще не раз встретимся на страницах этой книги: тонкие, подчас незаметные ситуативные переменные в действительности часто являются сильными детерминантами нашего поведения.
И второй вывод заключается в том, что большинство людей склонны не замечать важности ситуативных факторов в объяснении поведения, предпочитая им объяснения, основанные на предположениях о личностных свойствах и аттитьюдах. Иными словами, большинство из нас считает, что аттитьюды людей действительно предсказывают их поведение, и мы слишком полагаемся на это убеждение в интерпретации поведения других людей. Мы видим наличие взаимосвязи между аттитьюдами и поведением даже тогда, когда в реальности этой взаимосвязи может и не быть.
Однако в отдельных случаях аттитьюды действительно предсказывают поведение. Когда аттитьюд оказывается легкодоступен, то есть когда он легко приходит в голову, тогда он с большей вероятностью предскажет наше поведение. Легкодоступные аттитьюды окрашивают и модифицируют нашу интерпретацию окружающего социального мира. Далее мы действуем, основываясь на этой интерпретации, и наши действия создают мир, который существовал до этого лишь в нашем восприятии.
На протяжении всей нашей жизни мы ежедневно вынуждены искать объяснения множеству событий и происшествий. Почему Саддам Хуссейн вторгся в Кувейт? Почему та привлекательная девушка (юноша) не обратила на меня внимание? Как получилось, что я сдал письменный экзамен так слабо, а вы - так хорошо? Почему мама не приготовила мое любимое блюдо, когда я приехал к ней на рождественские каникулы? Часто наши ответы на подобные вопросы точны и рациональны, однако не стоит недооценивать их уязвимость по отношению к неточностям и тенденциозности.
В своих исследованиях того, как мы интерпретируем социальный мир, социальные психологи обнаружили три обобщенные тенденциозности, которые часто воздействуют на наши атрибуции и объяснения: фундаментальную ошибку атрибуции, тенденциозность деятеля-наблюдателя и тенденциозности в познании себя.
Фундаментальная ошибка атрибуции. Данный термин относится к общечеловеческой тенденции преувеличивать значение личностных или дис-позиционных факторов, а не ситуативных или ‹средовых› влияний при описании и объяснении причин социального поведения [62].
Ранее нам уже приходилось наблюдать один из примеров данной тенденции - корреспондентное умозаключение. Иначе говоря, в своих объяснениях, почему Сэм придерживается определенных политических взглядов или ведет себя определенным образом, мы склонны использовать характеристики личности (он твердо верит в данную политическую программу; он ленив) вместо ситуативных факторов (ему было поручено защищать эту позицию; в тот день он очень устал). Под влиянием корреспондентных умозаключений у нас может сложиться убеждение, что в мире гораздо больше согласованности между мотивом и поведением, чем это есть на самом деле.
Еще один пример фундаментальной ошибки атрибуции дает эксперимент, проведенный Гюнтером Бирбрауэром [63]. В нем испытуемые были свидетелями своеобразной инсценировки, в которой исполнители, по сути, абсолютно точно сыграли участников знаменитого эксперимента Стэнли Милграма на послушание персоне, облеченной властью (он был описан в главе 2), Вспомним, что Милграм сконструировал ситуацию, позволявшую достичь высокой степени послушания: оно выражалось в нанесении сильных ударов электрическим током ‹ученику›. Как и большинство испытуемых в эксперименте Милграма, человек, игравший роль ‹учителя› в инсценировке Бирбрауэра, выказал высокую степень послушания, посылая ‹ученику› максимальный электрический разряд. После окончания инсценировки Бирбрауэр попросил своих испытуемых оценить, какое, по их мнению, количество испытуемых в эксперименте Милграма проявило послушание в созданной ситуации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: