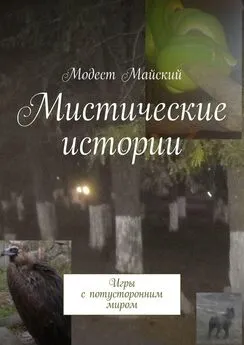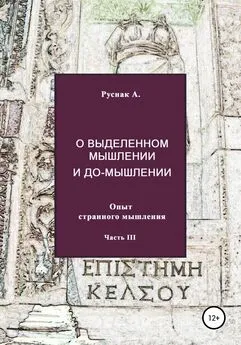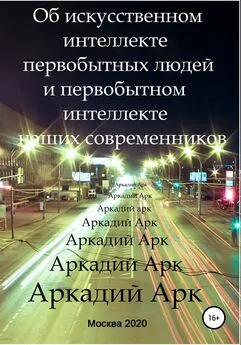Люсьен Леви-Брюль - Сверхъестественное в первобытном мышлении
- Название:Сверхъестественное в первобытном мышлении
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Педагогика-Пресс
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:5-7155-0701-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Люсьен Леви-Брюль - Сверхъестественное в первобытном мышлении краткое содержание
В центре внимания автора — известного французского философа, этнографа и психолога Люсьена Леви-Брюля (1857–1939) — проблемы природы человеческого мышления, культурной обусловленности его развития. Идеи Леви-Брюля породили плодотворную полемику и явились ценным вкладом в становление научного представления о природе сознания и мышления.
Работы, включенные в книгу, выходили на русском языке более 60 лет назад и давно стали библиографической редкостью.
Для психологов, социологов, философов и этнографов.
http://fb2.traumlibrary.net
Сверхъестественное в первобытном мышлении - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таким образом, по крайней мере часть траурных обычаев должна восходить к длящейся сопричастности, которая в пра-логическом мышлении соответствует тому, чем для логического мышления станет понятие собственности. На данной стадии это еще не понятие, а одно из тех представлений, одновременно общих и конкретных, примеры которых мы видели в большом количестве и которые всегда окутаны комплексом мистических идей и чувствований. Предмет, которым владеют, сопричастен природе того, кто им владеет, предмет, который принадлежал покойнику, сопричастен природе покойника (по крайней мере до церемонии, завершающей траур) и внушает те же чувства, что и покойник.
По тем же соображениям, однако, не менее неприкосновенна и собственность живого. Предметы, находящиеся в чьем-либо владении, сопричастны их собственнику в такой мере, что никому другому нет интереса завладеть ими. Так, у гвианских макузи «собственность каждого индивида, заключается ли она в его шалаше, или в его утвари, или в его возделанном участке, является священной. Нарушение права собственности, за исключением случая войны, почти невозможно. Споры и конфликты из-за собственности поэтому исключительно редки». Достаточно также каким-нибудь внешним знаком показать, что предмет кому-нибудь принадлежит, чтобы он сделался неприкосновенным. «Про дикарей кулана рассказывают, что они окружили свои плантации простой шерстяной ниткой или лианой на высоту двух футов от земли, и это в полной мере служило защитой их собственности: величайшим преступлением было бы переступить преграду, все верили, что совершивший такой поступок не замедлит умереть. Такое же верование господствует и у амазонских индейцев». В Новой Зеландии «туземец оставляет иногда на совершенно открытом месте все свое имущество, отметив только (кусочком воска), что оно принадлежит ему, и, как бы часто ни было посещаемо это место, никто не тронет имущества… Небольшим кусочком воска человек обеспечивал неприкосновенность входа в свое жилище, в котором находилось все, что было ценного, где хранились его припасы: никто не осмелился бы дотронуться до этого входа». Другими словами, «если кто-нибудь хотел защитить от посягательства свой урожай, жилище, одежду или что бы то ни было еще, он делал их ману . Если он выбрал дерево в лесу для изготовления челнока, то в том случае, когда он не имел возможности заняться им немедленно, делал его ману по отношению к себе, то есть превращал в свою собственность, обвязав его травой.»
Поскольку собственность является, таким образом, «священной», она не нуждается в защите при помощи внешней силы, а это относится в одинаковой мере к тому, что принадлежит целым группам, и к имуществу отдельных лиц. Согласно Б. Смиту, «каждому из членов племени точно известно, какая территория принадлежит племени, границы проведены столь же тщательно, как если бы это делал землемер». То же мы видим и у племен Центральной Австралии. Спенсер и Гиллен говорят, что между ними никогда не бывает конфликтов у поводу и что никогда ни одно племя не пытается овладеть территорией другого. И что бы оно могло с ней сделать? Представление о территориях прежде всего мистическое. Главенствующую роль играет не количество дичи или воды, находящееся на территории, а распределение «местных тотемических центров», где пребывают духи, ожидающие своего перевоплощения в племени. Какой же смысл одному племени сгонять с данной территории другое племя, чьи предки здесь мистически жили и продолжают жить? Партиципация между общественной группой и почвой столь тесна и близка, что не возникает даже и мысли об изъятии земли из собственности определенного племени. При таких условиях собственность группы «священна», по выражению Шомбургка: она неприкосновенна, и на деле ее не нарушают, поскольку коллективные представления, упоминавшиеся нами, сохраняют свою власть и силу.
Это мистическое чувство собственности может в некоторых случаях сделаться препятствием к обмену. Дать что-нибудь из своего имущества — значит дать что-то от себя, следовательно, дать власть над собой. Обмен — операция, содержащая в себе мистические элементы. Как бы это ни было выгодно и соблазнительно, но часто первобытный человек сначала станет от него отказываться. «Они не любят продавать иностранцам. Когда мексиканец хочет купить барана, зерно или пояс, то тарагумар сначала говорит, что ему нечего продавать… Покупка устанавливает своего рода братство между обеими сторонами, которые в дальнейшем называют друг друга нарагуа , между ними возникают отношения, почти похожие на те, которые существуют между compadres [25]y мексиканцев».
После церемоний, завершающих траур, смерть индивида становится полной в том смысле, что его сношения с общественной группой, в которую он входил при жизни, окончательно обрываются. Если все, что ему принадлежало, не было уничтожено, то оставшимся имуществом можно располагать. Его вдова может стать женой другого. Даже имя его, которое до этого было запрещено произносить, может быть, как мы это видим у некоторых племен, пущено в оборот. Значит ли это, что между покойником и живыми исчезло всякое взаимное влияние? С точки зрения логической мысли, которая не терпит противоречия, неизбежным кажется именно такое последствие. Не так, однако, обстоит дело для пра-логического мышления, которого противоречия не пугают, по крайней мере в его коллективных представлениях. С одной стороны, после заключительной церемонии нечего больше бояться, нечего ждать от покойника. С другой, однако, общественная группа ощущает себя живущей в самой тесной зависимости от своих мертвецов вообще. Группа живет и сохраняется лишь благодаря им. Прежде всего само племя по необходимости пополняется из их среды. Затем благоговение, которым окружены, например, у австралийцев чуринги , те чуринги , которые представляют предков, даже суть предки в том смысле, какой имеет данное слово при законе сопричастности; периодически совершающиеся племенами тотемические церемонии, от которых зависит их благополучие, наконец, другие институты — все это свидетельствует о сопричастности, ощущаемой между общественной группой в ее нынешнем виде и ее покойниками. Речь идет не только о недавно умерших, трупы которых еще не совсем разложились, но главным образом о покойниках, ушедших на стоянку Альчеринга: последние пребывают в чурингах , а также и в своих нанья , в том месте, где их мифический предок исчез под землей.
Возникает ряд неопределенных трудностей для логического мышления, которое не в состоянии допустить многосущность личностей, их одновременную локализацию в нескольких разных местах. Уже когда речь идет о периоде, предшествующем концу траура, т. е. окончательному уходу покойника, мы плохо понимаем, как это возможно, чтобы покойник одновременно пребывал в могиле вместе с телом и в то же время был в жилище, где обитал при жизни, в виде своего рода домашнего бога, хотя, на взгляд китайцев, например, в этом нет ничего несообразного. Еще в меньшей мере, однако, мы можем уложить в абсолютно понятную схему коллективные представления австралийцев, относящиеся к совершенным покойникам. Мы не в состоянии ни определить при помощи ясного понятия индивидуальность этих покойников, ни составить себе удовлетворительное представление о том, каким образом общественная группа сопричастна их бытию, а они сопричастны группе, пользуясь терминами Мальбранша. Достоверно, что взаимная сопричастность реальна, как было показано выше, что ее отнюдь не следует смешивать с тем, что в других обществах будет названо культом предков, что она связана со свойствами, присущими пра-логическому мышлению.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
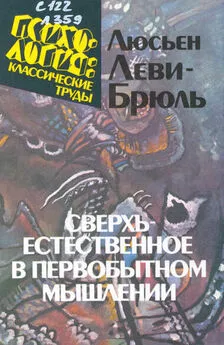
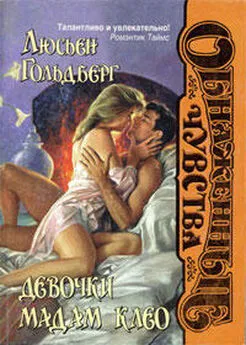
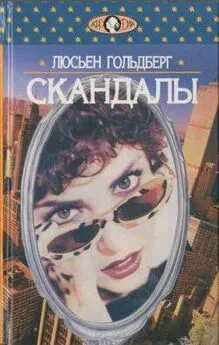
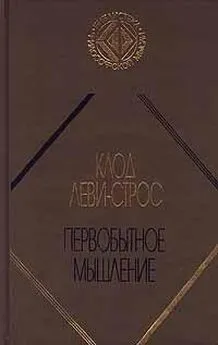

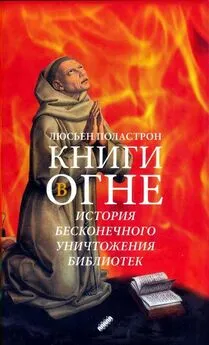
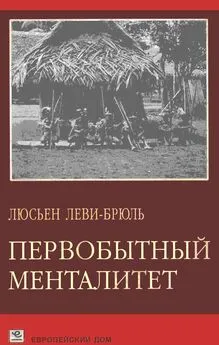
![Дэниел Левитин - Путеводитель по лжи [Критическое мышление в эпоху постправды]](/books/1101191/deniel-levitin-putevoditel-po-lzhi-kriticheskoe-my.webp)