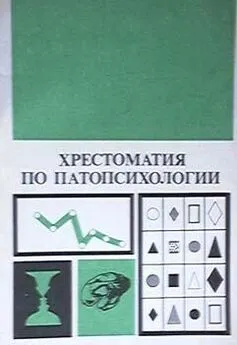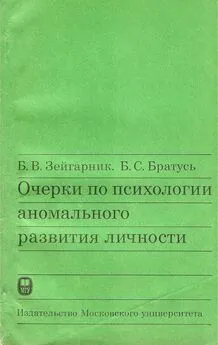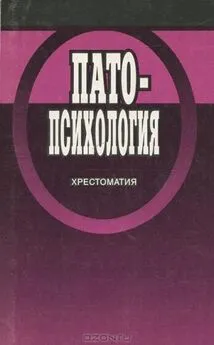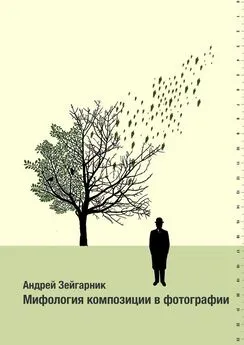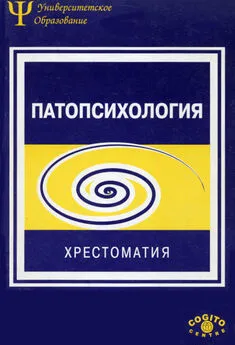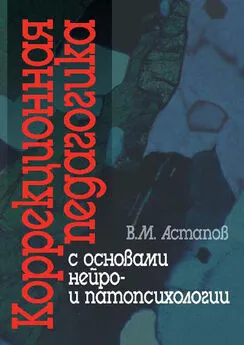Блюма Зейгарник - Хрестоматия по патопсихологии
- Название:Хрестоматия по патопсихологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Блюма Зейгарник - Хрестоматия по патопсихологии краткое содержание
Хрестоматия по патопсихологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
3. КОНКРЕТНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ
Все указанные примеры, как это нетрудно было видеть, дают картину конкретного мышления и подводят нас к анализу сущности и динамики конкретного мышления. Эта конкретность мышления динамически определяется полным подчинением смысловым полям, изображающим ситуационную действительность. Соотношение сил в смысловом поле определяется фактическими связями, обилием реальных ситуационных моментов, которые и ведут больного в ту или иную сторону в решении смысловой задачи.
Конкретность К. видна помимо прошлых примеров также из следующих данных.
Больному совершенно недоступны условные операции со значениями. (Он может механически запомнить 4 слова, но не может запомнить те же слова с помощью карточек, которые функционально связываются со словом. При воспроизведении отвечает наименованием картинки, изображенной на карточке.)
Больной так связан с действительностью, что не может говорить о пионере вообще; если перед ним на картинке изображен пионер с красным галстуком, он все время переходит на разговор о галстуке, не может объяснить, что значит пионер. Таким образом, само содержание и тема беседы определяются тем, что больной в данный момент воспринимает и видит.
Не понимает пословиц.
Опредмечивает геометрические фигуры (на круг говорит - луна, на четырехугольник - доска, на эллипс - яйцо).
С закрытыми глазами не может указывать местонахождения отдельных частей комнаты (чрезвычайно растерян, всем своим видом показывает, что вся задача неясна вследствие бессмысленности).
Все это, вместе взятое, как и многие приведенные выше примеры, показывает, что речь К., особенно ее смысловая сторона, резко изменена. Все почти авторы, писавшие об афизических расстройствах при болезни Пика (Штерц, Пик, Липман, Шнейдер), указывали на то, что афазия в этих случаях не укладывается в обычную клиническую схему афазических синдромов. Расстройства то ближе подходят к моторной афазии, то к сензорной; относительно мало меняется внешняя звучащая сторона речи, но наблюдается обычно распад речи, функционирующей как носитель значений. Речь становится беднее формами, малодифференцированной в семантическом строении, пока речевая символизация не угасает вовсе. Больные утрачивают потребность в речи и волю к ней, сохраняя вполне корректный объем спонтанной речи и часто живую экспрессивную, выразительную речь. На первый план выступает распад сигнификативной функции речи, ее семантического строения (Шнейдер).
У нашего больного мы наблюдаем также несомненные афазические расстройства, в которых симптомы сензорной, моторной и амнестической афазии выступают скорее как периферические, чем как центральные.
В чем сущность речевых расстройств у К.? Нам думается, что ближе и точнее всего можно определить их как распад значения слова, как семантическую афазию (Хэд) при относительной сохранности звуковой, внешней, физической стороны речи и при сохранности предметной отнесенности слова, т. е. индикативной функции речи. Слово для больного имеет лишь одно определенное буквальное значение, всецело определяемое ситуацией: предметную отнесенность.
Это сказывается прежде всего в том, что никакие операции, которые требуют от больного сосредоточения внимания на самом слове или на значении слова как таковом, вне конкретной ситуации оказываются для больного невыполненными по существу. Так, в задачах, где требуется сравнение двух значений, испытуемый уводится от прямого пути решения задачи предметным значением слова и вместо сравнения понятий воспроизводит конкретные ситуации. Приведем примеры. Врач: «Что больше: море или река?» - К.: «Море». - Врач: «Почему?» - К.: «Бывают аварии, погибают, и вместе с матросами и значит погибают...» - Врач: «Что больше: дерево или цветок?» - К.: «Дерево». - Врач: «Почему?» - К.: «Потому, что и цветок увядает, цветок роскошь, а из этого делают разные, делают из столов, из всяких таких». - Врач: «Что больше: платье или перчатки?» - К.: «Платье». - Врач: «Почему?» - К.: «Потому, что лучше платье, чем перчатки». - Врач: «Из каких букв составлено слово „стол“?» - К.: «Стол бывает деревянный».
Из этих примеров видно, что слово сейчас же указывает на предмет, и дальше больной может разговаривать только о предмете, но не о слове. Это особенно хорошо видно из последнего примера. Так же точно больной правильно производит сравнение больших и меньших предметов, потому что он сравнивает предметы, но мотивировать свои сравнения он не может потому, что у него превалирует предметная отнесенность слова, которая уводит больного от операции над понятиями. Это общее правило для речи больного: он не замечает слова как такового, как мы не замечаем совершенно прозрачного стекла, через которое рассматриваем какой-либо предмет. Более ранняя и примитивная индикативная функция слова выступает на первый план и целиком исчерпывает всю смысловую функцию реки. Больной может сказать нечто о столе, как о предмете, но ничего не может сказать о столе как слове. Он его просто не замечает, как мы не замечаем указательного жеста, а видим только то, на что этот жест указывает. Это вытекает из полной неосознанности слова как такового и невозможности произвольного, оторванного от ситуации употребления его. Поэтому доступная по смыслу испытуемому операция становится для него невозможной, как только она требует внимания к словесной форме как таковой. Изменение падежа нарушает понимание. Больной правильно отбирает карточки с верными и неверными суждениями: снег черный, снег белый, снег горячий, снег холодный. Он так же понимает, что вода тушит огонь, но не может отобрать верные суждения из следующих четырех: вода тушит огонь, огонь тушит воду, вода тушится огнем и огонь тушится водой. Он не знает, где здесь правильное и где неправильное. После опыта растерян и не понимает более самых простых фраз о воде и огне, но наряду с этим здесь же при разговоре о пожаре, когда больной введен в конкретную ситуацию, он обнаруживает не только полное понимание ситуации пожара, но с удивительным речевым богатством объясняет различные способы тушения пожара. Больной говорит, что огонь тушат шлангом, огнетушителем, брандспойтом и т. д.
Из этих опытов становится очевидно, что не недостаток понимания по существу и не ограниченность речевых возможностей являются причинами неудачи эксперимента, но только невозможность понимания семантического строя различно построенных грамматических фраз. Больной не улавливает тождественности смысла в разных формах и различия смысла в сходных формах.
Поэтому его речь полна констатации и совершенно лишена объяснений. Из непонимания отношения значений в сложной фразе создается аграмматизм. На вопрос, почему ходят в театр, К. отвечает: «Это, конечно, некоторая роскошь, каждый может в своих ресурсах и на галерке и в партере, а если у кого больше - увеличить свои это...» и т. д.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: