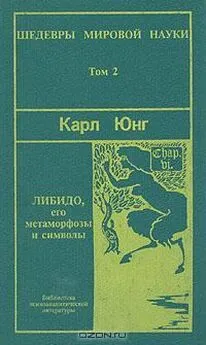Карл Юнг - Символы и метаморфозы. Либидо
- Название:Символы и метаморфозы. Либидо
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Юнг - Символы и метаморфозы. Либидо краткое содержание
Введите сюда краткую аннотацию
Символы и метаморфозы. Либидо - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Путем векового упражнения наивной проекции, которая представляет собой не что иное, как замаскированное реальное перенесение (не непосредственное, а через дух, через логос), христианское воспитание добилось очень значительного ослабления животности, так что большое количество жизненных сил освободилось для творческой работы над общественным укладом [80]. Масса libido вступила вместе с начавшимся возрождением (например с Петраркой) на путь уже предначертанный в религиозном отношении античною культурою на ее исходе, именно на путь перенесения, на природу [81]. Это видоизменение интересов libido должно в значительной части своей быть поставлено в заслугу культу Митры, представлявшему собой религию природы в лучшем значении этого понятия, в противоположность первичному христианству с его отвержением красоты мира сего [82]. Напомню цитированное Яковом Буркгардтом место из Исповеди Августина: "Люди стремятся вдаль, чтобы восхищаться горными высотами и мощными волнами моря — и покидают самих себя." А выдающийся знаток культа Митры Франц Кюмон говорит следующее: "Боги были повсюду и вмешивались в события повседневной жизни. Огонь, приготовлявший пищу верующим и согревавший их; вода, утолявшая их жажду и очищавшая их; даже воздух, которым они дышали, и свет дневной, им светивший, были предметом их богопочитания.
Может быть ни одна религия не дала своим исповедникам столько побуждений к молитве и богослужениям, сколько митриацизм. Когда посвященный вечером направлялся к святой пещере, скрытой в лесном уединении, то на каждом шагу все новые и новые впечатления вызывали в его сердце мистическое возбуждение. Звезды, сиявшие на небе; ветер, шевеливший листвой; источник и ручей, спешивший журча к долине; самая земля, на которую ступала его нога — все было божественным в его глазах и вся природа, его окружавшая, вызывала в нем благоговейную робость перед лицом бесконечных сил, действующих во вселенной" [83].
Основные идеи митриацизма, которые, как и многое другое из жизни античного духа, восстали вновь из гроба в эпоху Возрождения, можно встретить в следующих прекрасных словах Сенеки [84]. "Когда ты вступаешь в лес со старыми и необычайно высокими деревьями, в котором сплетения ветвей и веток закрывают вид неба, разве величавость такого леса, тишина местности, чудесная тенистость этого свободного образованного чащей купола не пробуждает в тебе веры в высшее существо? И там, где в размытой каменной глыбе, под выступом горы зияет пещера, созданная не руками человеческими, а высеченная природой, разве не проникает в твою душу своего рода религия? Мы освящаем места истоков великих рек; там, где из темной почвы пробивается вода, стоит алтарь; мы почитаем теплые источники; иные озера признаются священными за окружающую их мрачную тенистость или за бездонную глубину".
Все это погибло в мироотчужденности христианства, с тем, чтобы воскреснуть гораздо позднее, тогда, когда мышление уже достигло той самостоятельности идеи, которая была способна противостоять эстетическому впечатлению в такой мере, чтобы мысль не сковывалась более чувственно окрашенным воздействием впечатления, а могла бы возвыситься к рефлектирующему наблюдению. Так вступил человек в новое и независимое отношение к природе, чем было положено основание естественной науки и техники. Но таким путем произошел новый сдвиг центра тяжести интересов, возникло новое реальное перенесение, в котором наше время зашло очень далеко. Материалистический интерес оказался наиболее преобладающим. Поэтому обители духа, где прежде шло величайшее борение и развитие, находятся в запустении. Мир не только обезбожен, как на то жаловался сентиментализм 19-го века, но и несколько обездушен. Поэтому нечего удивляться, если открытия и учения фрейдовской школы с ее столь исключительно психологическими точками зрения встречают качанием головой. Благодаря переложению центра тяжести интересов из внутреннего мира во внешний, познание природы в сравнении с прежним временем бесконечно возросло, а через это антропоморфическое воззрение на религиозную догму подвергнуто огромному сомнению. Религиозный человек наших дней лишь с большим усилием может закрыть на это глаза, так как не только сильнейшие интересы отвратились от христианской религии, но и усилилась критика последней и неизбежная корректура ее. Христианская религия, по-видимому, уже выполнила свое великое биологическое назначение: она воспитала человеческое мышление к самостоятельности; потому ее значение утратилось, пока в трудно определимом объеме; во всяком же случае догматическое содержание христианства отнесено в область мифики.
Во внимание же к тому, что эта религия в воспитательном отношении совершила величайшее, что только мыслимо было сделать, отвергнуть ее ео ipso невозможно. Мне представляется, что ее мыслительные формы и не в последнем счете ее великая жизненная мудрость, оказавшиеся в течение двух тысячелетий необычайно действенными, могут все еще быть полезными каким-нибудь образом. Подводным камнем является злосчастное сцепление — религии и морали. Вот что надлежит преодолеть. От этой борьбы остаются следы в душе и мы неохотно констатируем отсутствие таких следов в некоторых душах. Трудно сказать, в чем состоят эти следы; тут недостает ни понятий, ни слов; если я все-таки думаю высказаться по этому поводу, то сделаю это параболически следующими словами Сенеки [85]:
"Если ты настойчиво стремишься к благородному образу мысли, то ты совершаешь нечто доброе и полезное. Тебе незачем, однако, этого хотеть; ведь это у тебя самого в руках; ты в состоянии это сделать. Тебе незачем возносить руки к небу или просить храмослужителя, чтобы он для вящего услышания твоей молитвы позволил тебе приникнуть к уху идола; Бог близок тебе; он у тебя, в тебе. Да, мой дорогой Люцилий! в нас живет святой дух, который следит за всем злым и добрым в нас и бодрствует над этим. Как мы поступаем с ним, таков он и с нами; никто не бывает хорошим человеком без Бога. Может ли кто-нибудь вознестись к счастию без него? Разве это не он, кто внушает людям великие и возвышенные мысли? В каждом честном и деятельном человеке живет Бог; какой — этого я тебе сказать не сумею!"
V. Песня о моли
Немного позднее мисс Миллер отправилась из Женевы в Париж; она говорит: "Мое утомление в вагоне было так велико, что я едва могла проспать один час. Было ужасно жарко в дамском купе". В четыре часа утра она заметила моль, которая летала вокруг вагонной лампы. После этого она попробовала снова заснуть. И тут ей пришло в голову следующее стихотворение, которое она озаглавила: Моль солнцу и которое мы приводим здесь в буквальном переводе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: