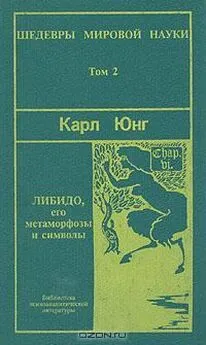Карл Юнг - Символы и метаморфозы. Либидо
- Название:Символы и метаморфозы. Либидо
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Юнг - Символы и метаморфозы. Либидо краткое содержание
Введите сюда краткую аннотацию
Символы и метаморфозы. Либидо - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дрекслер (Drexler. Roscher Lex. Sp. 2102, 52 и др.) видит в этом описании несомненный намек на сад богов, находящийся как говорили, на дальне-западном берегу океана; он предполагает, что это представление взято из догомеровского гимна Гиеросгамос. То должно быть далекая западная сторона, куда вместе с солнцем спешили Геракл, Гильгамеш и другие, дабы обрести бессмертие там, где солнце сочетается браком с матерью-морем для возрождения к вечно юной жизни. На этом основании весьма допустимо и наше предположение о сплетении Гиеросгамоса с мифом возрождения. Павзаний (III 16, 11) упоминает о сходном мифическом фрагменте, гласящем, что изображение Артемиды Орфии называлось также Lygodesma, то есть "связанное ивами", по той причине, что оно было найдено в ивовом кусте. Это сообщение имеет явное отношение к общеэллинскому празднеству Гиеросгамоса, сопровождавшемуся вышеописанными обычаями [411].
Очень близкое метафорическое отношение к вышеописанному имеет и мотив "поглощения", который, по утверждению Фробениуса, является одной из наиболее часто встречающихся составных частей солнечных мифов. "Кит-дракон" (утроба матери) всегда "проглатывает", "поглощает" героя. Проглатывание, поглощение может быть также и частичным: шестилетняя девочка, неохотно отправлявшаяся в школу, видит во сне, будто ее ногу обвил большой, красный червяк. Это животное, против ожидания, вызывает в ней нежный интерес. — Взрослая пациентка с чрезвычайно сильным перенесением образа матери на старшую подругу, никак не может с ней расстаться; ей снится следующий сон: ей надо пройти вместе с подругой глубокую воду (типический образ!). Подруга падает в воду (перенесение на мать), она старается вытащить подругу и ей это почти что удается, но вдруг огромный рак схватывает ее за ногу и тащит в воду.
Этимологически картина развертывается в том же роде: есть индогерманский корень, имеющий значение окружать, окутывать, вертеть, поворачивать. Производные от этого: покрывать, окутывать, окружать, извиваться (змеиный символ). К тому же корню относится также и корень, покров, яичная плева, матка. (Мы видим, что змея, благодаря сбрасыванию своей кожи, является отменным символом возрождения). Далее мы находим этот корень со значением "звучать" [412]и хотеть, желать (libido).
Мотив обвивания, объятия принадлежит к материнской символике [413]. Это подтверждается и тем фактом, что деревья вновь рождают, возрождают (точно так же как и кит-дракон в мифе об Ионе). Это их действие распространено повсюду; так в одном греческом сказании нимфы ясеневого дерева являются матерями титанов. (Тут кроется также и фаллическая компонента, потому что из ясеневого дерева делали копья). В северной мифологии прародителем рода человеческого является Аскр, ясень. Супруга его Эмбла, то есть "усердная", а не ольха, как думали раньше. Аскр мог бы прежде всего иметь фаллическое значение ясеневого копья. (Ср. сабинянский обычай проводить копьем пробор на голове невесты.) Бундегеш символизирует первых людей. Мешия и Мешиане, в образе дерева Рейвас, одна часть которого всовывает ветвь в отверстие другой части. Материя, которую по-северному сказанию, бог оживил, называется tre — деревянное дерево [414]. В дереве мирового ясеня, Иггдразиль во время светопреставления скрывается одна человеческая чета, от которой впоследствии происходят все роды возобновленного мира [415]. В этом образе не трудно узнать мотив Ноя ("ночное плавание по морю"); вместе с тем символ Иггдразиль являет также и материнский образ [416]. В момент светопреставления мировой ясень становится охраняющей матерью, одновременно деревом смерти и деревом жизни [417].
Воспроизводительная функция, которую приписывают мировому ясеню, объясняет нам образ встречающийся во главе египетской Книги Мертвых, называемой "Врата познания душ Востока":
"Я гребец на священном челне, я рулевой, не знающий покоя, на ладье Ра [418]. — Я знаю дерево изумрудного цвета, из середины которого возносится Ра к заоблачным высотам [419]."
Тут корабль и дерево (челн мертвых и дерево смерти) тесно связаны друг с другом. Мифологический образ показывает нам, как Ра воспрянул, рожденный из дерева. (Озирис в вереске.) Таким же образом следует толковать и изображение солнце-бога Митры на геддеригеймском барельефе, где мы видим его наполовину вышедшим из дерева. (Вроде того, как на многочисленных других памятниках он выступает наполовину из скалы, что наглядно поясняет рождение из скалы, так же как Мен.) Часто говорится о том, что около места рождения Митры находилась река. Этому конгломерату символов соответствует предание об Ашане, первом короле саксов, родившемся из скалы горной цепи Гарца, посреди леса, около водомета [420]. Тут перед нами все материнские символы вместе — земля, дерево, вода, — три формы устойчивой материи. И нас не должно больше удивлять, что в средневековой поэзии дереву придавали почетный титул "госпожи". Не удивительно также и то, что христианская легенда переделала дерево смерти, крест, в дерево жизни, так что Христа часто изображали на зеленеющем плодоносном дереве. Цёклер, глубокомысленный исследователь истории креста, тоже считает весьма допустимым такое сведение символа креста к дереву жизни; важный ритуальный символ дерева удостоверен уже вавилонскими источниками. Такому понимаю не противоречит и дохристианское значение этого (универсально распространенного) символа; напротив, оно только подтверждает такое понимание, потому что смысл его есть жизнь.
Появление креста в солнечном культе (в данном случае равночленного креста и свастики в качестве солнечного колеса), равно как и в культе богинь любви, отнюдь не противоречит вышеприведенному историческому значению. Христианская легенда широко использовала этот символизм. Знатоку средневековой истории искусства знакомо изображение креста, вырастающего на Адамовой могиле. Легенда гласит, будто Адам был погребен на Голгофе; Сиф посадил на его могиле ветку райского дерева, которая впоследствии стала крестом — деревом, на котором распяли Христа [421]. Как известно, грех и смерть появились в мире по вине Адама, Христос же своей смертью искупил за нас вину. На вопрос, в чем же состояла вина Адама, следует ответить, что его непрощенный, лишь смертью искупляемый грех состоял в том, что он дерзнул сорвать плод с райского дерева [422]. Какое это имело последствие, о том повествует восточная легенда: кто-то сподобился еще раз заглянуть в рай, уже после грехопадения, и увидел там дерево и четыре потока. Дерево засохло, а в ветвях его покоился младенец. Мать зачала ребенка [423].
Этому замечательному сказанию соответствует талмудическое предание, по которому у Адама еще до Евы была жена, демоническая женщина по имени Лилит, с которой он боролся за власть. Однако Лилит, благодаря заклинанию именем Божиим, поднялась на воздух и скрылась в море, Адам же с помощью трех ангелов заставил ее возвратиться [424]. Лилит обратилась в мара, в ламию, угрожавшую беременным женщинам и похищавшую новорожденных детей. Параллельным мифом является миф о ламиях, ночных привидениях, пугавших детей. Первоначальное сказание гласило, что Ламия была любовницей Зевса, но ревнивая Гера сделала так, что Ламия производила на свет только мертвых детей. С тех пор яростная Ламия стала преследовать детей и убивать их, где только представлялся случай. Этот мотив многократно встречается в сказках, где мать часто появляется настоящей убийцей или людоедкой; примером, тому может послужить в немецкой литературе известная сказка про Гензель и Гретель. В действительности же ламия — большая прожорливая морская рыба чем восстанавливается связь с мифом о ките-драконе, так превосходно разработанном Фробениусом, где морское Животное проглатывает солнце-героя для последующего возрождения и где герою приходится изощряться во всевозможных хитростях, дабы победить чудовище. Тут мы снова встречаемся со страшной матерью в образе прожорливой рыбьей пасти — смертоносной бездны [425]. У Фробениуса мы находим многочисленные примеры, где чудовище проглатывает не только людей, но и животных, растения и целые страны; все это герой спасает и ведет к славному возрождению.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: