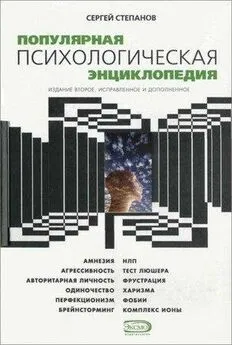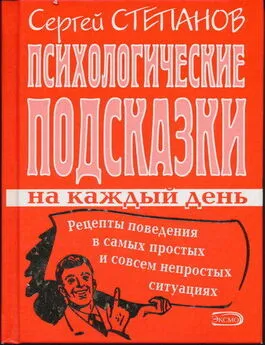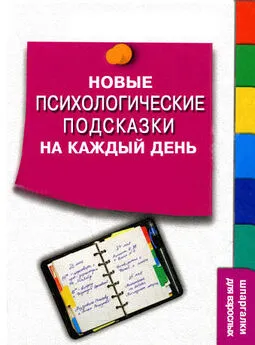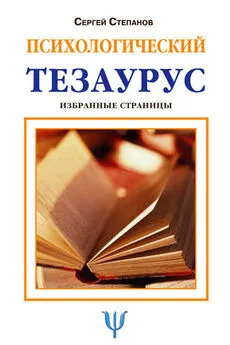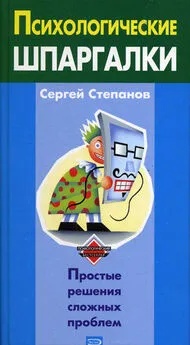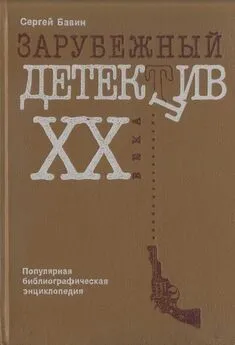Сергей Степанов - Популярная психологическая энциклопедия
- Название:Популярная психологическая энциклопедия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Эксмо»334eb225-f845-102a-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2005
- Город:М.
- ISBN:5-699-08839-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Степанов - Популярная психологическая энциклопедия краткое содержание
Эта энциклопедия призвана совершить то, что не под силу серьезным академическим изданиям: снабдить всех, кто интересуется теоретическими и практическими аспектами психологических знаний, точными и универсальными инструментами, собранными почти за два столетия существования и развития психологической науки. Выработка единой, понятной всем (и профессионалам, и любителям) терминологии, четкое объяснение специфических тем, традиционно вызывающих неоднозначное толкование, точная формулировка базовых определений, знание ключевых фактов биографий звезд мировой психологии – все это делает энциклопедию необходимым и востребованным изданием на рынке многообразной и слабо систематизированной психологической литературы.
Совокупность содержащихся в энциклопедии знаний не только поможет вам расширить эрудицию, но и научит более проницательно наблюдать окружающий мир, лучше понять людей и себя.
Материал в книге представлен в виде статей, расположенных в алфавитном порядке, и ее можно читать с любого места, выбрав наиболее заинтересовавшую вас тему.
Популярная психологическая энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В самой идее всестороннего изучения ребенка ни с какой точки зрения невозможно было усмотреть ничего дурного. Однако для Советского Союза 30-х годов объективное изучение ребенка представляло собой реальную социальную угрозу. Разве можно согласовать идею гегемонии пролетариата с установленным педологами фактом, что дети гегемона хуже справляются с интеллектуальными задачами, чем дети непролетарского происхождения? По одной из версий (достоверность которой сегодня уже трудно проверить), особое негодование Отца Народов и Лучшего Друга Всех Советских Детей вызвал крайне низкий тестовый балл, выставленный его сыну Василию.
В результате главный удар пришелся именно на тестирование. И это в самом деле было уязвимым местом советской педологии. В качестве диагностических методик педологи-практики в широком масштабе использовали скороспелые поделки, торопливо скопированные с западных образцов, а то и сами западные тесты без их серьезной адаптации. К этой работе были во множестве привлечены недостаточно подготовленные энтузиасты, чьих навыков хватало на проведение тестовых процедур, но было явно недостаточно для глубокой интерпретации результатов. По результатам тестирования выводы зачастую делались поверхностные и чересчур категоричные.
Решение проблемы было найдено по-большевистски радикальное: если неумелые повара регулярно пересаливают пищу – поваров наказать, а соль и вовсе из рациона изъять. Отечественные науки о ребенке оказались на пресном пайке на несколько десятилетий.
Интересно: в 90-е гг., когда большевистский радикализм подвергся столь же радикальному осуждению, оказалась громогласно заклеймлена лишь избыточность репрессий, но не их обоснованность (в данной сфере, разумеется). Педологические извращения в самом деле имели место, и требовались конструктивные меры для преодоления этой ситуации. Беда в том, что меры были избраны деструктивные. В своих ошибках, если угодно – извращениях, педологи рано или поздно разобрались бы и сами и, вероятно, сумели бы их исправить. Определенные тенденции к этому в начале 30-х наметились. Самое обидное, что и эти тенденции оказались безжалостно пресечены драконовским постановлением ЦК.
Запрещенная де-юре, педология так и не была официально реабилитирована, однако через много лет возродилась де-факто. Например, сегодня в Москве выходит журнал «Педология. Новый век», продолжающий лучшие, конструктивные традиции репрессированной науки. Труды педологов переиздаются, причем не как архивные памятники, а как источник вдохновения для новых поколений исследователей детства.
Правда, настораживает и то, что нередки сегодня и рецидивы настоящих педологических извращений. Не стану развивать эту тему, дабы не обидеть кого-то из коллег. Скажу лишь: хочется надеяться, что с этими издержками мы разберемся сами, в рамках своего профессионального сообщества. Официальный декрет тут совсем не нужен.
ПЕРЕНОС– термин, бытующий в психологии в двух существенно различающихся значениях, вследствие чего нуждается в подробном разъяснении. Наиболее распространенное в последние годы представление о переносе возникло в недрах психоанализа и получило подробное толкование в трудах З.Фрейда и его последователей. В психоаналитической трактовке перенос рассматривается как перемещение пациентом на аналитика своих влечений и переживаний, которые возникли на ранних этапах психосексуального развития и были впоследствии вытеснены. Принципиально иная трактовка данного понятия возникла в русле психологии научения (преимущественно бихевиористской ориентации, хотя и не только) и связана с влиянием ранее сформированного действия на овладение новым действием. Характерно, что в отечественных психологических словарях, выходивших до начала 90-х гг., когда психоанализ еще не приобрел нынешней ажиотажной популярности, раскрывалось лишь второе значение понятия «перенос». Следует также отметить, что в первом значении зачастую используется термин-«калька» – трансфер . То есть в современных русскоязычных изданиях, когда речь идет о трансфере, имеется в виду именно психоаналитический термин. В то же время в иностранных языках, из которых столь часто предпринимаются заимствования психологической терминологии, и перенос во втором смысле также обозначается как трансфер , но при переводе используется исключительно русский аналог. Так или иначе, оба значения данного термина заслуживают подробного разъяснения.
Основатель психоанализа не позаботился о составителях справочников и словарей – он практически не оставил точных энциклопедических дефиниций вводившихся им понятий, напротив – постоянно уточнял и пояснял их в своих многочисленных трудах. Пожалуй, наиболее емкое понятие переноса описано им в автобиографическом эссе, в котором он отмечал: «При всяком аналитическом курсе лечения помимо всякого участия врача возникают интенсивные эмоциональные отношения пациента лично к психоаналитику, которые не могут быть объяснены реальными обстоятельствами. Они бывают положительными или отрицательными, могут варьироваться от страстной, чувственной влюбленности до крайней степени неприятия, отталкивания и ненависти. Это явление, которое я вкратце называю переносом, вскоре сменяет у пациента желание выздороветь и, покуда оно проявляется в смягченной форме, может способствовать влиянию врача и помочь аналитической работе. Если оно потом перерастает в страсть или враждебность, то становится главным инструментом сопротивления. Бывает также, что оно парализует способность пациента к внезапным мыслям и вредит успеху лечения. Но было бы бессмысленно пытаться его избежать; анализ невозможен без переноса». Одновременно основатель психоанализа предпринял попытку толкования явления переноса в довольно широком смысле: «Не следует думать, что перенос порождается анализом и что он наблюдается только в связи с ним. Анализ лишь вскрывает и обособляет перенос. Это общечеловеческий феномен…» Иначе говоря, как это отмечалось самим Фрейдом, перенос в широком смысле представляет собой универсальное явление, наблюдаемое в отношениях между людьми и состоящее в перенесении ими друг на друга нереализованных переживаний и привязанностей. В более узком, сугубо психоаналитическом, смысле перенос – это процесс воспроизведения эмоциональных реакций, ведущий к установлению специфического типа отношений, в результате которых ранее присущие пациенту чувства, фантазии, страхи и способы защиты, имевшие место в детстве и относившиеся к значимым родительским или замещавшим их фигурам, перемещаются на аналитика и активизируются по мере осуществления аналитической работы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: