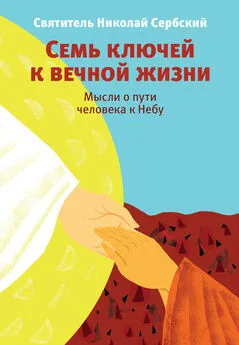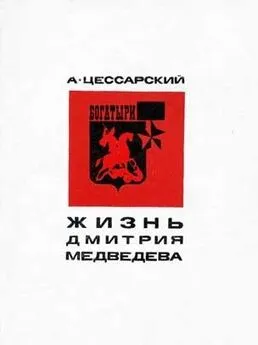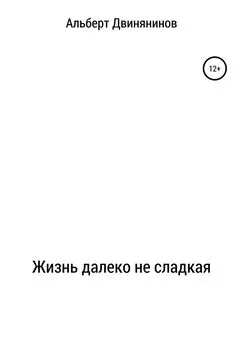Альберт Швейцер - Жизнь и мысли
- Название:Жизнь и мысли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1996
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альберт Швейцер - Жизнь и мысли краткое содержание
Книга адресована читателям, интересующимся проблемами религии, этики, философии и культуры.
Жизнь и мысли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таким образом, в не поддающуюся эллинизации веру в Христа как несущего мессианское Царство Павел привносит производную от нее веру в воскресение через бытие во Христе. А эта вера в Мессию, несущего воскресение, и в таинства, гарантирующие бытие во Христе и тем самым воскресение, уже могла быть эллинизирована. В ней греческий мир нашел логически обоснованную уверенность в бессмертии и представление о мистериях, надежно обеспечивающих это бессмертие. Так эсхатологическая мистика создает концепцию осуществляемого Иисусом спасения, заключающую в себе возможность эллинизации.
Эллинизация христианства происходила незаметно. Вера в Христа как несущего воскресение развивалась в соответствии с эллинистической логикой, не вступая в конфликт с эсхатологическими чаяниями, окружавшими ее наподобие скорлупы, которая нужна лишь до поры до времени. Более того, совсем не факт, что эллинизация этой веры началась лишь с момента, когда ослабление эсхатологической надежды сделалось очевидным. Богословы Малой Азии конца I и начала II столетия, усилиями которых осуществлялась эллинизация веры в воскресение через Христа, приступили к этой работе в то время, когда ожидание второго пришествия Иисуса и наступления мессианского Царства еще владело ими достаточно крепко.
Игнатий в своем Послании к ефесянам (около 110 г. н. э.) утверждает, что "последние времена (escatoi æairoi)" уже настали (Игн. к еф. 11:1) [372] Апокалипсис Иоанна заканчивается словами "Ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!" (Опер. 22:20). — В Послании Варнавы, написанном, вероятно, в конце I в., говорится: "Близок день, когда для злых все будет потеряно; близок Господь и награда Его" (Варн. 21:3).
.
Для Поликарпа, епископа Смирны, писавшего примерно в то же время фклиппийцам, воскресение все еще означает союз с Христом для правления мессианским Царством (Полик. к фил. 5:2).
Палий, епископ Фригии, живший в середине II в. н. э., в такой мере находился под влиянием эсхатологии, что Евсевий (Церк. ист. III, 39) впоследствии пренебрежительно отзывался о нем из-за его хилиазма [373] Слова об удивительном плодородии винограда в мессианском Царстве Палий приводит как слова Иисуса. См. с. 250.
[374] Хилиазм — учение о тысячелетнем Царстве Христа на земле перед наступлением конца света.
.
Для Юстина, который своим учением о Логосе тесно связан с мало-азийским богословием, ожидание второго пришествия Христа было еще в середине II в. я. э. живым элементом христианского учения. Это видно из того, что в "Диалоге с Трифоном" он прилагает большие усилия, чтобы где только можно отыскать у еврейских пророков предсказания двукратного пришествия Христа (один раз в земной ничтожности, второй — в мессианской славе). Что значит для него эсхатология, видно из его слов, обращенных к Трифону: "Короткое время остается вам для вашего обращения, и если Христос предварит вас Своим пришествием, то напрасно будете каяться, напрасно плакать, ибо Он не услышит вас" (Диал. 28:2).
Юстин — хилиаст. Он ожидает, что избранные будут жить тысячу лет с Христом в новом Иерусалиме. "А я и другие здравомыслящие во всем христиане знаем, что будет воскресение тела и тысячелетие в Иерусалиме, который устроится, украсится и возвеличится, как объявляют то Иезекииль, Исайя и другие пророки" (Диал. 80:5. См. также Диал. 139:4—5). В подкрепление своей точки зрения на тысячелетнее царство Юстин ссылается на Апокалипсис Иоанна (Диал. 81:4; Откр. 20:4—6), не понимая, что согласно последнему только верующие в Христа избранные являются Его соратниками в тысячелетнем Царстве, тогда как, согласно верованиям самого Юстина, жившие до Христа тоже будут участвовать в том же воскресении, что и верующие в Христа, и, значит, тоже будут участниками тысячелетнего Царства.
Насколько сильными были эсхатологические чаяния в малоазийской церкви в середине II в. н. э., показывает возникновение монтанизма. Это энтузиастическое движение, которое началось в Мисии, снова всерьез возвращается к первохристианской вере в непосредственную близость Царства.
О том, что задержка второго пришествия Господа поколебала уверенность в скором наступлении мессианского Царства, мы узнаем уже из новозаветных посланий. Так, Послание к евреям призывает верующих не оставлять надежды и оставаться твердыми до конца (Евр. 6:11—12; 10:23, 35; 12:12—14).
Возражая насмешникам, утверждающим, что второго пришествия Христа вообще не будет, Второе послание Петра утверждает, что счет времени у Бога ведется не так, как у людей, ибо тысяча лет для Него как один день. И если Он все еще задерживает день Христов, это объясняется Его долготерпением: Он хочет дать людям время для покаяния (2 Пет. 3:4—9).
Согласно Посланию Иуды, глумление по поводу задержки спасения — это как раз признак его близости, так как, по слову апостолов, в последнее время должны появиться ругатели (Иуд. 17—23).
Юстин тоже вынужден признать, что уже не все верующие живут ожиданием нового Иерусалима. "Впрочем, как я тебе говорил, есть многие из христиан с чистым и благочестивым настроением, которые не признают этого" (Диал. 80:2). То место в "Диалоге", на которое ссылается здесь Юстин, до нас не дошло.
Таким образом, можно считать, что вплоть до середины II в. эсхатологическая надежда — по крайней мере в малоазийской церкви, о которой мы знаем от Игнатия, Поликарпа и Палия, — все еще была живым элементом христианской веры. В известной нам из Дидахе (Дид. 9, 10) молитве благодарения во время Евхаристии ожидание Царства и второго пришествия Христа выражалось с неослабевающим пылом каждое воскресенье. Это обстоятельство, вероятно, много значило для поддержания надежды в противовес сомнениям, возникавшим в связи с задержкой Царства.
Однако для объяснения эволюции христианской веры не существенно, можем ли мы точно установить, в какой мере сохранилось подлинно живое эсхатологическое ожидание на тот или иной момент времени. Эллинизация веры в воскресение, которое несет Христос, с неизбежностью началась много раньше всеобщего ослабления эсхатологической надежды. Вера в наступление мессианского Царства связана исключительно с надеждой, тогда как уверенность в воскресении вследствие общности с Христом может быть логически обоснована. Естественно, что именно в этом пункте, т. е. там, где имелась возможность дальнейшего развития, и началась работа мысли, направленная к тому, чтобы дать христианской надежде разумное основание. Ибо если уверенность в воскресении может быть логически обоснована, то тем самым гарантируется и участие в мессианском Царстве.
Вопрос, следовательно, не в том, как долго эсхатологические чаяния продолжали еще что-то значить, а в том, как долго их значимость была достаточной для того, чтобы определять логику веры в воскресение, проистекающее из единения с Христом. Такую значимость они имели только у Павла. Только у него уверенность в воскресении для участия в мессианском Царстве основывается на том, что с воскресением Иисуса мессианская эра (т. е. эра воскресения) уже началась, и поэтому верующие уже умерли и воскресли с Христом и тем самым обеспечили себе обретение формы бытия воскресших при Его втором пришествии. Для живших после Павла поддержание уверенности в воскресении с помощью такой аргументации стало уже невозможным. Их эсхатологические чаяния, сколь бы живыми они ни были, раскалены уже не до такой температуры, чтобы их можно было отлить в форму эсхатологической мистики. Это возможно лишь тогда, когда воскресение Иисуса воспринимается как начало воскресения мертвых с такой непосредственностью, что верующий уверен, что он действительно находится в состоянии перехода к форме бытия воскресших. С момента, когда верующие перестают сознавать себя поколением, "достигшим последних веков" (1 Кор. 10:11), единственным поколением, которое может участвовать в мессианском Царстве, перерастание эсхатологических чаяний в эсхатологическую мистику умирания и воскресания с Христом становится уже невозможным. Но если утверждение о воскресении через Христа уже не могло просто опираться на формулировки Павла, его необходимо было сформулировать на новой, неэсхатологической основе. Эта неэсхатологическая формулировка неизбежно должна была быть эллинистической по своему характеру.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: