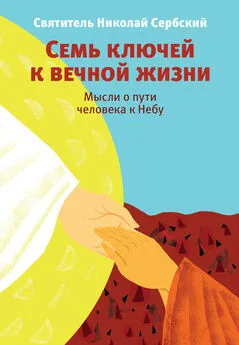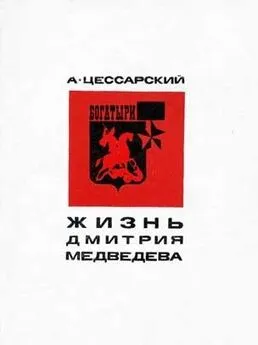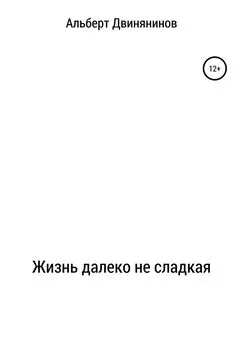Альберт Швейцер - Жизнь и мысли
- Название:Жизнь и мысли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1996
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альберт Швейцер - Жизнь и мысли краткое содержание
Книга адресована читателям, интересующимся проблемами религии, этики, философии и культуры.
Жизнь и мысли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако при ближайшем рассмотрении этот путь оказывается вовсе не таким бесперспективным, как полагали до сих пор.
Какого рода мистика невозможна в иудаизме и в вышедшем из него первохристианстве? Мистика единения с Богом. Но у Павла речь идет вовсе не о мистике единения с Богом, а о мистике единения с Христом. А этой последней трансцендентность еврейских и первохристианских представлений о Боге не препятствует.
А кроме того, почему эсхатология должна исключать всякую возможность мистики? Ведь она пытается устранить трансцендентность. Она заставляет природный мир уступить место сверхприродному и усматривает начало этого процесса в смерти и воскресении Иисуса. И разве нельзя себе представить, что в то время, когда готовится и вот-вот должна наступить эта смена одного мира другим, склонному смотреть в глубь вещей, горящему эсхатологическим ожиданием уму эти миры представились как бы вдвинутыми один в другой? Тем самым создались бы необходимые условия для ощущения будущего в настоящем и вечного во временном — а в этом ведь и состоит мистика. Отличительная особенность возникшей таким путем мистики как раз и заключалась бы в том, что взаимопроникновение вечного и временного происходит здесь не в акте мышления, а является просто-напросто реальностью; роль мышления сводится лишь к тому, чтобы эту реальность осознать. Итак, те своеобразные черты, которые отличают мистику Павла от мистики эллинистических мистериальных религий и от всякой другой мистики, непосредственно вытекают из того факта, что она связана с космическим событием, завершающим мировую историю.
Имеются и другие соображения, сулящие успех на этом пути. Одна из самых трудных проблем состоит в том, что учение Павла стоит особняком по отношению к первохристианству, а между тем оно не воспринималось им как чужеродное. Известные слова базельского теолога Франца Овербека : "Павла никто никогда не понимал; единственный, кто его понял, — Маркион — понял неправильно" — по отношению к первохристианству безусловно несправедливы [144] Эта с тех пор столько раз повторявшаяся фраза была сказана Овербеком у себя дома в застольной беседе с Адольфом Гарнаком в середине 80-х гг. прошлого века. Овербек перефразировал известную шутку об учениках Гегеля: из всех учеников только один понимал его, да и тот неправильно. Философ и апостол оказались, таким образом, товарищами по несчастью. Гарная привел эти слова в своих лекциях по истории догматики, и они стали широко известны благодаря его студентам. Так рассказывает эту историю сам Овербек в своей посмертно опубликованной книге: Overbeck F. Christentum und Kultur. 1919. S. 218 ff.
.
Павел, должно быть, рассчитывал на понимание своих единоверцев также и в том, что касалось его мистического учения, иначе он не стал бы ссылаться на него в подтверждение правильности своего учения о свободе от Закона. А это можно объяснить лишь тем, что предпосылки его мистики уже присутствовали в первохристианской эсхатологической вере. Все, что он требует от своих слушателей и читателей, — это сделать естественные выводы, которых сами они пока не сделали. Если мистика Павла уходит своими корнями в эсхатологическую надежду, тогда понятно, каким образом она могла быть результатом его личного творчества и вместе с тем претендовать на понимание со стороны верующих.
Цитирование Второго послания Петра (3:15—16) в доказательство того, что Павел был непонятен своим единоверцам [145] Это не вполне ясное место выглядит так: "И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие писания". Неправильно понял Павла автор Послания Иакова — как это видно из его полемики против веры без дел (Иак. 2:14—26). Но учение о вере без дел, взятое в отдельности, действительно дает повод к ложному толкованию, как показывают столетиями продолжающиеся с тех пор дискуссии.
, ничем не оправдано. Автор, который пишет здесь под именем Петра, жил несколькими десятилетиями позже, когда на сцену выходит апеллировавшая к учению Павла . гностическая ересь. Он предостерегает христиан начала II в., чтобы они не позволяли сбивать себя с толку гностическими толкованиями тех мест посланий Павла, которые могут дать к этому повод.
Вопрос, почему учение Павла не казалось чуждым христианам первого поколения, имеет и другую сторону: почему оно стало казаться чуждым поколениям, жившим непосредственно после Павла? Если взять послания Игнатия, представителя приступившего к эллинизации христианства малоазийского богословия, то при поверхностном взгляде может показаться, что он целиком и полностью находится под влиянием Павла. Реминисценции из Павла встречаются у него на каждом шагу, и свое учение он строит на идее бытия во Христе, которая идет от Павла. Однако это основательное знание посланий Павла лишь еще яснее показывает, насколько чуждо Игнатию его учение. Он никогда не объясняет бытие во Христе с помощью тех представлений, из которых исходил Павел! Ни разу не ссылается на слова об умирании и воскресании с Христом! У него не осталось никаких следов от учения об оправдании верой! Он действительно перенимает представление о бытии во Христе, но без того содержания, которое вкладывал в него Павел. Ибо это содержание он подменяет новыми, более простыми идеями эллинистического происхождения. Фактически Игнатий и близкая ему школа Иоанна эллинизируют христианство так, как если бы Павел еще не сделал этого до них. С их точки зрения — а кому, как не им, должны мы доверять в вопросе о том, что считать эллинистическим, а что нет, — представление об умирании и воскресании с Христом не является эллинистическим, ибо в противном случае христианство приняло бы его вместе с представлением о бытии во Христе, вместо того чтобы подменять воззрениями, вытекающими из идеи Логоса.
Если бы учение Павла было эллинизированным христианством, оно сохраняло бы свое влияние в последующие времена. Тот факт, что уже второе поколение христиан не знает, что с ним делать, заставляет предположить, что оно построено на убеждениях, существовавших лишь в первом поколении. Но что же это такое, что исчезло вместе с первым поколением христиан? Ответ может быть только один: ожидание немедленного наступления мессианского Царства Иисуса.
Если выводить учение Павла из эллинистической мистики, то два факта, сами по себе трудные для понимания, — что первохристианство не отвергает его как нечто чужеродное и что уже следующие поколения не знают, что с ним делать, — эти два факта становятся совершенно загадочными. Напротив, если бы удалось вывести его из эсхатологии, то первый из этих фактов проливал бы свет на второй, и наоборот. Открывается возможность объяснить то, что до сих пор объяснить не удалось: место Павла по отношению к его современникам, с одной стороны, и к ближайшим последующим поколениям — с другой. Уже одного этого достаточно, чтобы оправдать попытку вывести его мистику из эсхатологии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: