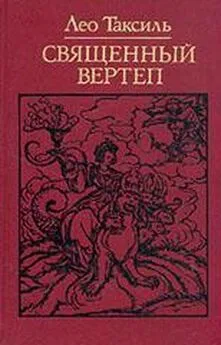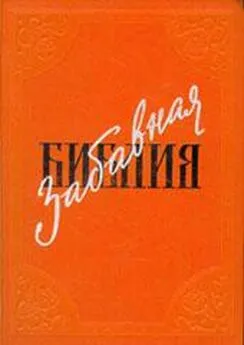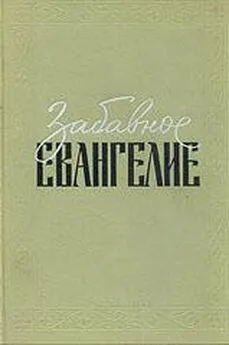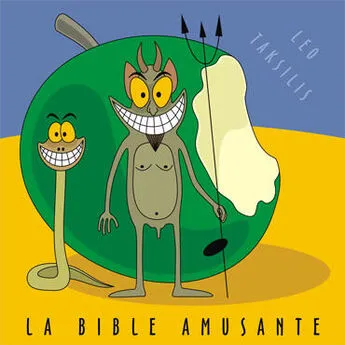Лео Таксиль - Забавное Евангелие, или Жизнь Иисуса
- Название:Забавное Евангелие, или Жизнь Иисуса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат
- Год:1977
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лео Таксиль - Забавное Евангелие, или Жизнь Иисуса краткое содержание
Для массового читателя.
Забавное Евангелие, или Жизнь Иисуса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Примечания
1
Три мнения, о которых говорит Таксиль, сводятся к следующему. Первое принадлежит богословию. Оно исходит из догмата троицы, по которому христианский бог един, но троичен. Троичность его реализуется через понятие трех ипостасей. В обыденном религиозном сознании они рассматриваются как три самостоятельных лица — бог-отец, бог-сын и бог-дух святой. Одна из этих ипостасей воплотилась в человека («богочеловека») Иисуса Христа, который и принес новое, сотворенное на небесах учение — христианство.
Второе мнение высказано либеральными историками христианства прошлого столетия и заключается в том, что Иисус Христос не бог, а реальная историческая личность, возвышавшаяся над своим веком и размерами своего ума и выдающимися нравственными качествами, созидавшая из собственной «внутренней глубины» новую религию.
Третья точка зрения сводилась к тому, что Иисус не бог и не историческая личность, но миф, сфабрикованный в спое время корыстолюбивыми людьми, и христианская религия возникла как продукт обмана и сплетения «лживых и глупых выдумок».
Нетрудно заметить, что все эти концепции, несмотря на их несовместимость и даже прямую противоположность, в определенном отношении схожи между собой. Все они возникновение христианства связывают не с объективными закономерностями развития общества, социальными аспектами его истории, движением общественной мысли и т. п., а с волеизъявлением того или иного персонажа: в одном случае — божества, в другом — выдающегося человека, в третьем — ловких обманщиков. Разумеется, такой волюнтаристский аспект в объяснении возникновения христианской религии в корне противоречит историческим фактам и не отвечает научному пониманию законов исторического процесса в целом.
2
Автор имеет в виду евангельскую фразу о божьем Слове, ставшем плотью, и т. п. Не вдаваясь в рассмотрение этого мифа и терминологического разнобоя, остановимся на происхождении самого понятия «Слово», играющего существенную роль в христианской догматике. Понятие «Логос» — «Слово» — восходит к античной философии. Опуская более отдаленные связи, мы можем указать на александрийского философа Филона (I в. н. э.), в учении которого Логос понимается как посредник между миром Идеи (являющейся высшим богом, не причастным ни к чему земному) и миром материи (к которому сопричастен и человек;). В учении Филона Логос (в некотором отношении ипостась вышнего бога) является своего рода устроителем мира материи и посредником между вышним богом и людьми. По этому учению, Логос сообщает людям волю бога и возносит богу молитвы за людей. В религиозно-философских системах гностиков функции Логоса в общих чертах схожи с вышеизложенными. Там он также посредник между воспринимающим его человеком и богом. Он носитель таинственного знания, озарения, дарующего спасение. Воздействие этих дохристианских учений о Логосе — божьем Слове на христианскую теологию вполне очевидно. Одним из наглядных примеров тому служат первые строки Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у бога, и Слово было бог. Оно было в начале у бога. Все чрез него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть» (гл. 1, ст. 1–3).
3
Левиты — иудейские священнослужители, составлявшие младшую категорию жреческой касты.
4
Церковная традиция приписывает авторство третьего канонического евангелия Луке, по профессии врачу из малоазийского города Антиохии.
5
Мессия (древнееврейское «машиах») заключает в себе понятие о помазании на царство. Таким ритуальным актом сопровождалась церемония возведения на иудейский престол нового царя. С течением времени образ мессии усложнился. Он связывался с утопическими мечтаниями об идеальном царе, божьем помазаннике, олицетворении силы и справедливости, который «мышцей своей» обеспечит безопасность страны и установит бесконфликтное царство социальной справедливости, где «волк будет жить вместе с ягненком» и будет повержено злое начало. В ветхозаветной части Библии этот образ наслоился на идеализированный лип иудейского царя Давида. По мере того как мечты оставались неосуществленными, ожидаемый мессия терял свои прежние черты. Новые идеи — идеи спасительности страданий, порожденные безысходностью нищенского существования, наложились на первоначальный образ. Теперь мессия рисуется страдальцем, который безропотностью и собственной безвинной смертью искупает грехи всех. В дальнейшем идеал мессии все больше перемещается на небеса, приобретая мистические юрты (Даниил, гл. 7, ст. 13–14). Но родословие его угнездилось прочно, и его по-прежнему представляли себе отпрыском «дома Давида». В этом синкретическом виде образ ожидаемого мессии из еврейской части Библии перекочевал в христианские евангелия, где и получил дальнейшую разработку. Евангельское слово «Христос» есть греческий перевод ветхозаветного «машиах», «мессия».
6
В евангелиях с именем Ирода связана легенда об избиении вифлеемских младенцев, которое тот предпринял, чтобы погубить родившегося мессию — младенца Иисуса.
7
Авторы евангелий, унаследовав ветхозаветную традицию, возводили родословие Иисуса Христа к дому древнего иудейского царя Давида.
8
Таксиль обыгрывает здесь один из важных элементов символа веры, который раннехристианский писатель Тертуллиан (ок. 160 — после 220 н. э.) формулировал так: «Мы веруем, что существует единый бог, творец мира, извлекший его из ничего своим Словом (Логос), рожденным прежде веков. Мы веруем, что Слово сие есть Сын божий… спустившийся по наитию Бога-духа святого в утробу девы Марии, воплотившийся и рожденный ею, что Слово — это господь наш Иисус Христос…» (Тертуллиан. О возражении еретикам, 13).
9
Автор использует (правда, весьма вольно) версию, приводимую римским писателем Цельсом, где упоминается некий солдат Пантера как подлинный (тайный) отец Иисуса (см.: Ориген. Против Цельса, 1, 32). Несколько фрагментов, где некий Иошуа бен-Пандира отождествляется с Иисусом Назарянином, есть в Талмуде.
10
Родословия Иисуса приводятся только в двух евангелиях — от Матфея и от Луки. В двух других (от Марка и от Иоанна) они отсутствуют. Назначение этих явно искусственных инструкций — примирить в первохристианстве разноречивые тенденции по вопросу о природе Христа. С одной стороны, он представитель земного рода. С другой — сын божий, зачатый от святого духа. Выход из противоречия евангелисты усматривали в том, чтобы сын божий в то же время был бы и отпрыском династии царя Давида. Для этого Матфей протягивает генеалогическую нить от династии Давида до Иисуса через плотника Иосифа, не замечая, что, если бы даже этот последний и принадлежал к царскому дому, нить эта все-таки разрывается, поскольку Иосиф не отец Иисуса, а лишь муж его матери. Лука изображает это родословное древо Иисуса Христа более протяженно, и корни его протягиваются через Давида к первочеловеку Адаму (Лука, гл. 3).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: