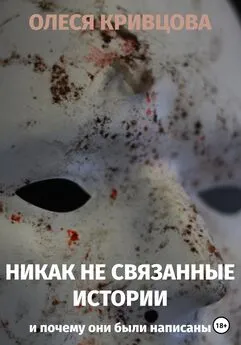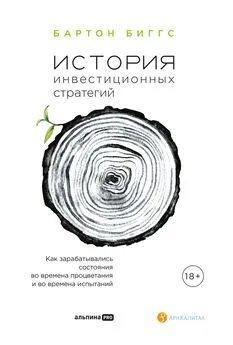Джон Бартон - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres]
- Название:История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-155993-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Бартон - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres] краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вторую особенность подхода Спинозы нельзя назвать новой в полной мере этого слова, но ее новизна состояла в том, что она проявлялась последовательно: он уделял внимание жанру библейских текстов. Поражает уже то, что он применяет понятие жанра ко всем известным библейским рассказам. Пытаясь вывести долговременный смысл из истории об Адаме и Еве, он отмечает: «…многие не допускают, что эта история есть парабола [притча], но решительно утверждают, что она есть простой рассказ» [10]. Отсюда ясно: для самого Спинозы это «притча». Возможно, это не столь уж сильно отличается от того, что имели в виду толкователи эпохи святых отцов или средневековые комментаторы, когда говорили, что то или иное повествование требуется толковать аллегорически – хотя именно этот рассказ, причем прежде многих других, как правило, понимался как часть исторической хроники, то есть буквально. Однако Спиноза выходит далеко за рамки такого анализа и рассуждает о содержании Нового Завета с точки зрения его жанра, причем в таком духе, что тут же появляются очень важные вопросы о библейском авторитете и вдохновении.
Послания Павла, как и другие новозаветные послания, Спиноза рассматривает не как богодухновенное Писание, а просто как обычные письма. В них, в отличие от Пятикнижия, нет законодательства – только убеждение и аргументы. Апостолы, писавшие их, делали это скорее не как «пророки», а как «учители»: иными словами, они провозглашали не прорицания от Бога, а свое собственное учение, никогда не предваряемое формулировкой «Так говорит Господь», которую мы находим в пророческих книгах. Несомненно, в одном случае (1 Кор 7:40) апостол Павел даже приводит собственное мнение и открыто говорит, что это не послание от Господа:
Даже в весьма многих местах встречаются формы выражения, свойственные душе колеблющейся и смущенной, например в Послании к Римлянам, в гл. 3, ст. 28: «Итак, мы полагаем», и в гл. 8, ст. 18: «Ведь я полагаю», и многое в этом роде. Кроме того, встречаются другие формы выражения, весьма далекие от пророческого авторитета, именно: «Это же я говорю как слабый, а не по приказанию» (см. 1 Кор 7:6), «Совет даю как муж, который милостью Бога верен» (см. 1 Кор 7:25), и много других в этом роде [70][11].
Даже учение Иисуса не дано как закон: Христос «…не устанавливал законов как законодатель, но учил как учитель нравственным правилам» [12]. По мнению Спинозы, это означает, что учение Иисуса (которого Спиноза, видимо, почитал, хотя и был иудеем) необходимо понимать как совет, как наставление из источника в высшей степени мудрого – но не как закон.
Одной из отличительных особенностей некоторых толкований времен Реформации была возросшая восприимчивость к жанру. Маттиас Флациус Иллирийский (Матвей Влашич Иллирийский, 1520–1575), последователь Лютера, настаивал на том, что при толковании текста необходимо решить, «что перед нами – рассказ или историческое повествование, часть учения или наставление, дает ли текст утешение или обвиняет, приведен ли он ради описания чего-либо или же являет собой речь либо некое ее подобие» [13]. (В отличие от Спинозы, он не ставил вопросов об истинности какого-либо типа текста.) Ричард Хукер проводит примерно такие же разграничения, когда обвиняет своих противников в том, что те неверно поняли жанр частей Библии и насильно вложили в рассказы смысл законов.
То, что они сочли прорицанием, было тщательно рассмотрено и отвергнуто. Поистине, оно касается слова Божьего, но то ли неверное толкование смысла, то ли искажение слов, сознательно предпринятые ради того, чтобы божественным показалось все, что таковым не является, и, напротив, не показалось божественным все, что является таковым, явно предназначались к тому, чтобы злоупотребить божественным свидетельством и даже представить его в ложном свете; какое оскорбление, нанесенное даже по отношению к людям, достойно считаться верхом гнусности. И как бы мне хотелось, чтобы они обратили самое пристальное внимание на то, к чему привычнее всего обращаться в таких делах, на Закон Божий, на Слово Господне; но даже вопреки ему, когда доходит до того, что они привлекают в качестве авторитета то подразумеваемое ими Слово и тот подразумеваемый ими Закон, у всех у них в порядке вещей такой обычай: они цитируют чьи-то речи, взяв их в том или ином историческом повествовании, и настаивают на том, будто те были написаны как точнейшие формулировки Закона. Но если это не добавление к Закону Божьему – что же еще тогда называть таким добавлением? Когда то, что в Слове Божьем выражается не иначе как исторически, мы без всяких на то оснований толкуем как нечто, предназначенное в качестве закона, и заходим еще дальше, настаивая на том, будто можем доказать, что именно так все и задумывалось, не добавляем ли мы к Законам Божьим и не увеличиваем ли их число по сравнению с существующими? [14]
Настоять на том, что те, кто неверно понимает жанр библейских книг, проявляют неуважение к Библии – это все равно что захватить высоту в религиозной войне. Но в начале Нового времени авторы еще до Спинозы применяли такие жанровые разграничения к апостолу Павлу, а то и к самому Иисусу, стремясь свести их учение от обязывающего закона к простым практическим наставлениям, как то делал Спиноза. Он стал знамением свершившейся перемены: книги, которые прежде воспринимались как части единообразного «Священного Писания», теперь стали пониматься (как и у самых ранних христиан) как собрания книг самого разного рода. В попытке найти параллели, и то лишь частичные, нам придется вернуться в прошлое на много веков, к Антиохийской школе (см. главу 14). Антиохийцы были искусны в риторике и потому могли чутко воспринимать и разные типы текста, и ход рассуждений в таких произведениях, как послания Павла – в то время как другие толкователи, их современники, а равно так же и многие комментаторы в последующие эпохи, видели только собрание фрагментарных афоризмов, которые можно было брать по отдельности, в отрыве от контекста, и приводить как библейские доказательства своей правоты. После Спинозы ответственные читатели Библии уже не могли так делать; впрочем, безответственных тоже хватало (как хватает их и сейчас).
Возможно, величайшим новшеством в трудах Спинозы было то, что он различал смысл и истинность текстов. И до него иные отрицали истинность того, что утверждал библейский текст, но они были или атеистами, или еретиками. И христиане, и иудеи принимали как данность то, что они, толкуя Библию, открывают истину. И если кто-то говорил, что верит в Бога (а Спиноза именно так и говорил), но потом просто отрицал, что в Библии написана истина – а Спиноза делает это вполне откровенно, когда, например, говорит, что солнце не остановилось в небе для Иисуса Навина, – это, несомненно, поражало. Для Спинозы это принципиально: установить смысл текста – это одно, а спросить, истинно ли то, что утверждает этот текст – совершенно другое; и разная суть требует совершенно разных и отдельных методик. Чтобы понять Библию, утверждал Спиноза, нужно собрать положения, выраженные в ней. Для этого необходимо провести разграничение между теми пассажами, смысл которых ясен, и теми, которые остаются темными, но «здесь я называю темными или ясными те положения, смысл которых легко или трудно усматривается разумом из текста речи; мы ведь интересуемся только смыслом речей, а не их истинностью». В пример он приводит предположение о том, что Бог есть огонь, подразумеваемое во многих местах Еврейской Библии. Если мы, скажем, хотим выяснить, верил ли Моисей в это буквально, мы не должны спрашивать, истинно ли это, в сущности, в прямом смысле слова: нам следует спросить только о том, совместимо ли это с другими предположениями Моисея (истинными или ложными). И мы должны быть готовы: возможно, придется сказать, что Моисей верил в то, во что мы поверить не можем – если мы обнаружим подобное.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Джон Бартон - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres]](/books/1144118/dzhon-barton-istoriya-biblii-gde-i-kak-poyavilis-bi.webp)
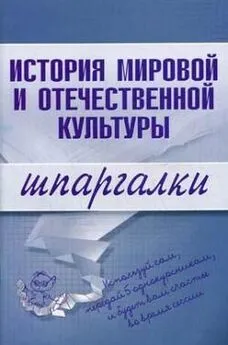


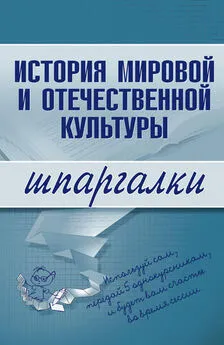
![Джон Херст - Краткая история Европы [litres]](/books/1060852/dzhon-herst-kratkaya-istoriya-evropy-litres.webp)
![Джон Норвич - Краткая история Франции [litres]](/books/1070487/dzhon-norvich-kratkaya-istoriya-francii-litres.webp)