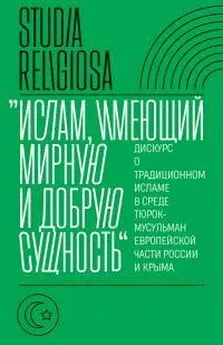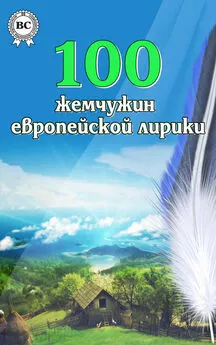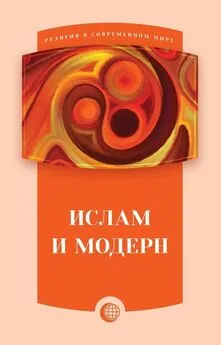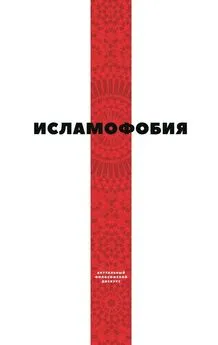Коллектив авторов - «Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма
- Название:«Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:НЛО
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - «Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма краткое содержание
«Ислам, имеющий мирную и добрую сущность». Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При этом татарские улемы зачастую заимствовали традиции суфийских тарикатов с их идеей духовной автономии от официальных властей. Как заметил во время интервью бывший заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Рустам Батров:
Если сущность суфизма заключается в преодолении форм, в том, чтобы видеть Бога за пределами внешних форм, то со временем суфизм сам оброс ритуальностью, и в самом суфизме начинают проявляться тенденции тяготения к стагнации, формализму, косности и буквоедству. Возможно, на определенном этапе учителя прежних веков, поняв это, для преодоления догматизма решили разворачиваться от Йасавийа к Накшбандийа [373].
По мнению некоторых исследователей, устойчивость позиций ислама в жизни татар была достигнута благодаря не столько традиционной системе догматики и ритуала, сколько суфийской интерпретации исламского вероучения как «религии сердца» [374]. При этом мусульманам региона на разных этапах было свойственно не «коллективное участие с акцентом на обрядность, а путь индивидуального послушания» [375]. В большей степени они были «последователями особой формы суфизма, называемой в народе „китап сүзе“ („книжное слово“)» [376].
Среди мусульман Волго-Уральского региона были в дореволюционное время широко распространены сочинения, в которых излагалась история и сущность учения тариката Накшбандийа, содержались различные руководства для мюридов, обязательные предписанные молитвы для членов тариката и др. Многие из них были изданы в казанских типографиях [377]. В татарских медресе наряду с учебными пособиями по этике ( ахлак ) имели широкое распространение образцы татарской поэзии, пронизанные суфийскими мотивами. В произведениях Ахмеда Йасави, его ученика Сулеймана Бакыргани (1091–1186), среднеазиатского поэта-суфия Аллахияра Суфи (1616–1713) и других авторов, получивших широкое распространение среди шакирдов кадимистских медресе [378], четко прослеживается направленность на обесценивание мирского. В этих произведениях часто встречаются призывы оставить все земные помыслы и устремиться к миру, который ждет человека за порогом смерти.
Развитие суфийской литературы в Урало-Поволжье связано с творчеством таких авторов, как Мавля Колый, Таджеддин Ялчыгул. Суфийскими мотивами пронизано творчество Хисама Кятиба, Умми Камала, Габдрахима Утыз-Имяни, Хибатуллы Салихова, Шамсутдина Заки, Дардманда и др. На становление личности знаменитого татарского богослова Шигабутдина Марджани также оказывал влияние суфизм. Марджани был учеником трех накшбандийских шейхов ветви Муджаддидийа: ‘Убайдуллы ибн Нийазкули (ум. в 1852 г.), ‘Абд ал-Кадира ал-Фаруки ал-Хинди (Сахибзадэ) (ум. в 1855 г.), Музхира ибн Ахмада ал-Хинди (ум. в 1883 г.). В своих трудах Марджани с уважением упоминал Ибн ал-‘Араби, ‘Абд ар-Рахмана Джами, Бахауддина (Баха ад-дин) ан-Накшбанди, приводил цитаты из известных суфийских источников, таких как «Ал-Футухат ал-маккиййа» («Мекканские озарения») Ибн ал-‘Араби, «Ад-Дурра ал-фахира» («Славная жемчужина») ал-Джами, «Хилйат ал-авлийа» («Украшение святых») Абу Ну‘айма ал-Исбахани, «Ал-Мункиз мин ад-далал» («Избавляющий от заблуждения») ал-Газали, «Кут ал-кулуб» («Пища сердец») ал-Макки, «Мактубат муджаддидиййа» («Послания обновления») ас-Сирхинди и др. [379]
В татарском мусульманском мире с самого начала распространения суфизма актуализируется дискуссия о двух путях – шариате и тарикате, и об оппозиции юридический – мистический ислам. Так называемая антисуфийская литература зачастую создавалась и самими суфийскими шейхами в полемике с другими тарикатами. Критика суфизма и ишанизма занимала большое место в трудах татарских авторов. Особенно ярко это прослеживается у Габдрахима Утыз-Имяни (1754–1834), который сам был ярким представителем суфийской поэзии со свойственным ей обращением к аскетизму, призывами сторониться государства.
Многие традиции и обряды, связанные с почитанием суфийских шейхов-наставников, подвергались критике рядом татарских ученых и расценивались как бидгат – непозволительное новшество, привнесенное в религию. Отражение дискуссий, связанных с темой суфизма, можно наблюдать и по материалам татарской прессы начала ХХ в. Рядовые мусульмане того времени сталкивались с необходимостью понимания различных аспектов богослужебной практики при исполнении определенных религиозных традиций. Разворачивающиеся на страницах татарских газет и журналов богословские диспуты производили неизгладимое впечатление на обывателей и приобретали большую популярность. Так, в издаваемом Баруди журнале «Ад-дин ва-л-адаб» («Религия и нравственность») даже был создан специальный раздел «Баб ал-фатва» («Раздел фетв») для ответов на многочисленные письма в редакцию журнала. Читатели просили дать авторитетное богословско-правовое решение возникающих в татарской среде проблем, в том числе связанных с суфийскими практиками: коллективным исполнением громкого зикра , почитанием авторитетов, посещением могил, совершением жертвоприношения в определенных местах, называемых «изгеляр тавы» (гора святых), и др. [380]Авторами фетв, публикуемых в журнале, как правило, выступали Галимджан Баруди, Шахар Шараф, Мухаммад Наджиб ат-Тунтари.
В книге «Джавами’ ал-калим шархи» («Комментарии к изречениям Пророка») Риза Фахретдин, будучи противником так называемого «народного ислама» с его культом святых, жестко критиковал языческие пережитки в ритуальных практиках мусульман. Он перечисляет некоторые, по его мнению, непозволительные нововведения: чтение Корана за деньги, чтение Корана у тела покойника до джаназа-намаза, подаяние за покойника (« гур садкасы »), намазы в ночь Рагаиб и ночь Бара‘ат. Некоторые из этих традиций, пишет Риза Фахретдин, в свое время ввели Абу ат-Талиб ал-Макки и Абу Хамид ал-Газали, он называет их суфиями, которые «имеют мало знаний о хадисах и Сунне» [381]. Посещение же могил с целью обращения к мертвым за помощью, по мнению Ризы Фахретдина, «может оказаться даже хуже, чем нововведение» [382]. В книге «Ибн Таймийа» Риза Фахретдин называет суфизм «еретическим путем постижения религии и религиозных наук» [383]. По его мнению, среди сторонников и противников суфизма «имеется множество проявляющих чрезмерность и переступающих границы». Вместе с тем, «нельзя отрицать, что среди них есть как очень хорошие и полезные люди, так и вредные и плохие» [384].
Слово «ишан» [385]в годы антирелигиозной пропаганды советского периода имело либо пренебрежительные, либо негативные коннотации. Попытки воссоздания суфийской традиции в форме ишанизма, воплощения таких нелегальных практик, как паломничество к так называемым святым местам ( зийарат ), получали однозначно негативную оценку и были предметом яростной критики со стороны чиновников и советской интеллигенции. Впоследствии, как пишет российский историк Ю. Н. Гусева, «ввиду мощного силового влияния извне и объективных обстоятельств (естественной смены поколений, доминирования секулярного светского мышления в сознании значительной части населения Средней Волги), к началу 1970‐х гг. масштабы и степень влияния суфизма будут незначительными» [386].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: