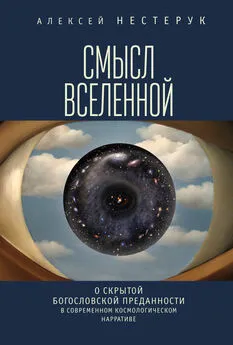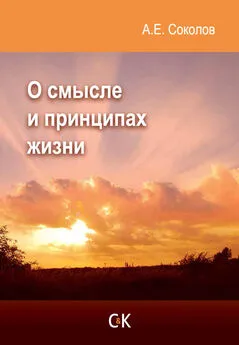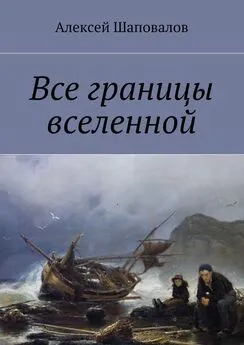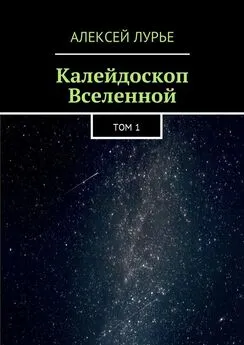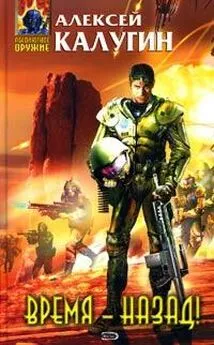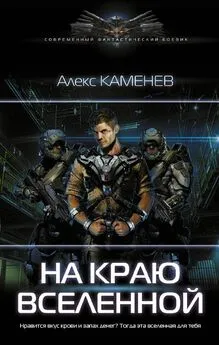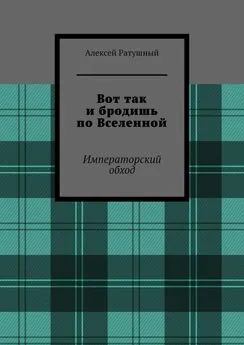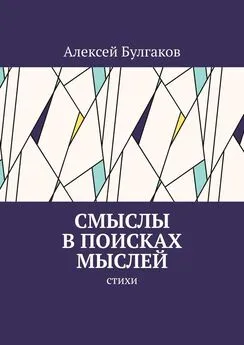Алексей Нестерук - Смысл вселенной. О скрытой богословской преданности в современном космологическом нарративе
- Название:Смысл вселенной. О скрытой богословской преданности в современном космологическом нарративе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-906910-13-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Нестерук - Смысл вселенной. О скрытой богословской преданности в современном космологическом нарративе краткое содержание
Книга предназначена для широкой аудитории, интересующейся диалогом между наукой и богословием, философией космологии, феноменологической философией, христианским богословием.
Смысл вселенной. О скрытой богословской преданности в современном космологическом нарративе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Исходя из такого осторожного отношения к познанию, состояние модерна видится как определенное отклонение от объединяющего и духовно универсального взгляда на природу познания и реальности, который существовал в эпоху поздней античности и средневековья, и который был сбалансированным альянсом между верой и знанием. Наука, а точнее знание, интерпретировались богословски, что проясняло смысл познания и сами основания его возможности. Познание, понимаемое в стиле модерна, не предполагало со-причастия, то есть живого участия и онтологического со-отношения с тем, что познается. Это отношение, используя язык Хайдеггера, можно было бы интерпретировать как, с одной стороны, позволение человеком контролировать свое существо кругом несокрытого , а, с другой стороны, самому человеку уходить в потаенность по отношению к этому кругу, сохраняя ипостасные, несводимые к природному качества. Соответственно истина такого познания в эпоху модерна сводилась к индивидуальному осознанию и соответствию мышления своему объекту ( veritas est adaequatio rei et intellectus ). Рацио , понимаемое как усеченная версия логоса греческой патристики, соответствовало переходу от познавательного приоритета опыта общения к приоритету индивидуализированной рациональной концепции. Субъекту логики эпохи модерна стало присуще вольное брожение взглядом по реальности без осознания своей собственной фундаментальной инаковости по отношению к ней (ипостасной трансцендентности), трансцендентности, которая, тем не менее, позволяет вступать в отношение с реальностью и артикулировать ее как энергийные слова ( логосы ). Искажение смысла логоса как познания в общении лежит в основании тех стандартов мысли, которые разработаны модерном и исторически восходят к Схоластике (и позднее к Декарту), что в свою очередь было значительным отклонением от Христианского богословия эпохи поздней античности и средневековья 56.
Соответствующий такому изменению взгляда на познание переход от личности (ипостаси) к индивидууму был определенным искажением антропологии в пользу психологического индивидуализма, а также суждения и оценке человеческого субъекта на основании правовых критериев 57. Как результат, сопутствующее такому изменению понимание объективности , как лишенной аспекта живого общения и основанной на определениях функционального и правового порядка, привело к формированию научно-технической цивилизации и методов познания на основе принципа полезности, включенного в рамки социальных прав и соответствующих целей.
В то время как западное богословие вынуждено было адаптироваться к требованиям модерна и тем самым принять секулярные формы в своей аргументации о присутствии Божественного в мире и взаимодействии с науками, у богословия Восточной Церкви сохранился опыт такого взгляда на науки и познание, который претерпел гораздо меньше приспособлений к секуляризму модерна. Именно поэтому, оставаясь богословски и литургически верным традиции, христианское богословие в его православной форме способно реализовать богословскую преданность в вопросах диалога между Христианством и наукой как критику оснований и предпосылок современной науки и тех путей, на которых осуществляется ее диалог с богословием 58. Поскольку позиция неразделенного Христианства, выраженная и по сей день Православием, исходит из примата веры в познании в том смысле, что сам процесс познавания получает прояснение из актов веры (например, веры в саму возможность познания в божественном образе), его богословие обладает определенной свободой по использованию достижений современной философской и научной мысли для того, чтобы, используя в частности их язык и критический метод, выявить скрытые верования, пронизывающие современную науку и присутствующие во всех секулярных формах диалога между Христианством и наукой. Если научные утверждения и претензии на истину будут видны как функционирующие в условиях верований , то диалог между богословием и наукой перейдет на другой уровень: а именно, различие между богословием и наукой будет видно как различение лежащих в их основании верований и, следовательно, интенциональностей сознания в одном и том же человеческом субъекте. Таким образом, критическая функция самого богословия по отношению к науке будет заключаться в анализе различий и разделений структур субъективности в одном и том же человеке, что придаст определенную феноменологическую направленность всему проекту диалога богословия и науки. Однако феноменология не привлекается здесь как некая внешняя форма анализа, нейтральная по отношению к богословию. Наоборот, дискурс, подверженный «богословской преданности», не может обойтись без феноменологии как метода экспликации этой преданности.
Появление феноменологии в богословском дискурсе лишний раз показывает, что богословие в дискурсивном модусе является формой критического мышления, ибо таковым является сама феноменология 59. Сферой действия этого мышления являются те области, где Церковь (как воцерковленное человечество) встречается с исторической и культурной реальностью. Богословие творчески и критически осмысливает любую возникающую историческую проблему или тему, оставаясь при этом в сопряжении с духовной жизнью Церкви, ибо эта жизнь есть опыт Бога, то есть вечности 60. Это тот контекст, в котором Церковь обращается к преданию. Поскольку богословие исходит из опыта Церкви, сопряженного с вечностью, оно всегда функционирует поверх не только массового религиозного сознания, но и «секулярного» сознания. Задача богословия и состоит в том, чтобы осуществлять постоянную конструктивную критику этих модусов сознания 61.
Осуществляя такую критику, богословие утверждает себя как мета-дискурс , то есть как такая форма критического мышления о различных модусах социальной активности, которая выражает Слово Бога Творца, а не служит «профетическим» голосом каких-то конкретных проявлений этой активности. Богословие выступает как мета-дискурс , превосходящий не только все социально-исторические науки, но и любые всеобъемлющие философские системы. Такое устройство его критической функции никогда не позволяет богословию соскользнуть в положение подчиненности по отношению к другим частным дискурсам (будь то философия, социальная политика или рубрики диалога между наукой и религией). Это означает, что богословие никогда не может быть определено и позиционировано секулярным разумом. Именно поэтому богословие не может согласиться с автономией представлений о той сфере реальности, которая описывается разумом, основанным на естественнонаучной рациональности 62.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: