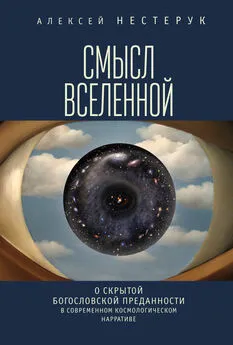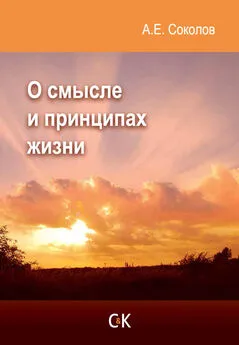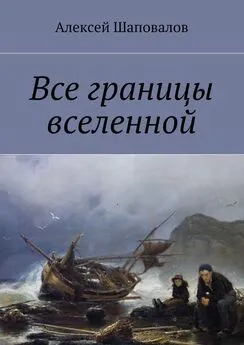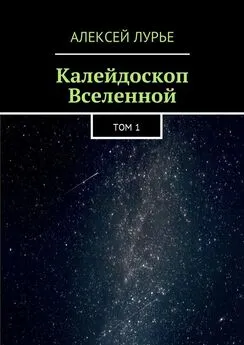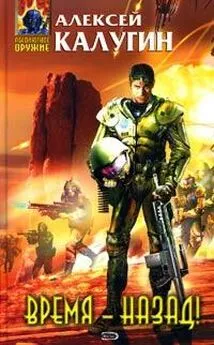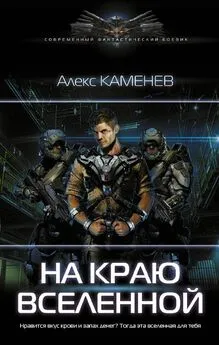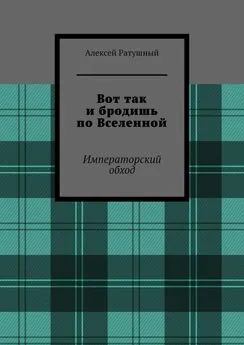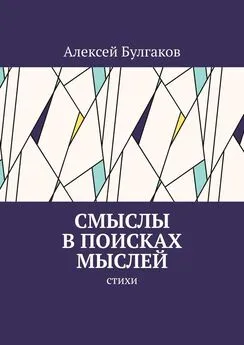Алексей Нестерук - Смысл вселенной. О скрытой богословской преданности в современном космологическом нарративе
- Название:Смысл вселенной. О скрытой богословской преданности в современном космологическом нарративе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-906910-13-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Нестерук - Смысл вселенной. О скрытой богословской преданности в современном космологическом нарративе краткое содержание
Книга предназначена для широкой аудитории, интересующейся диалогом между наукой и богословием, философией космологии, феноменологической философией, христианским богословием.
Смысл вселенной. О скрытой богословской преданности в современном космологическом нарративе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Любая философская стратегия по отношению к обоснованию науки, включая «критический реализм», оставляет неотвеченным главный вопрос о самой возможности (то есть фактичности) продвижения научного познания на путях «критической рациональности». Указанное продвижение познания на основе «критической рациональности» не отдает отчета о свое собственно смысле и его конечной цели. Если представить себе существование телоса такого продвижения, то с точки зрения критических рационалистов он сам должен постоянно подвергаться коррекции и изменению, являясь тем самым случайным и подстраиваемым под исторические обстоятельства. Естественно предположить, что такой критический подход к пониманию путей познания как части жизни вообще, ввергает человека в состояние отчаяния, космической бездомности и несонастроенности с вселенной, о которых мы уже говорили выше. Богословие в этом смысле вносит в человеческий поиск истины определенную телеологию как ориентацию, обращение к смыслу человеческой жизни в перспективе вечности. Богословие «вдыхает» смысл в отстраненный и безликий мир, преодолевая тревогу и страдание человека как «зрителя пустоты и слушателя молчания небес». Критической функцией богословия в утверждаемом нами смысле является переоценка любых форм обыденного критицизма, основанного на научной рациональности, и извлечение из этого критицизма того содержания, которое утверждает человеческое существование в перспективе обещания спасения. Для преодоления критики богословия критическими реалистами, этому богословию следует выработать «критику критики». Богословие и богословы не могут никому позволить остановить себя в защите ценности человеческого в человеке, природного в природе, справедливости в человеческом сообществе. Любая космологическая теория с ее постоянно изменяющимися открытиями должна быть подвергнута богословской критике: божественный образ в человеке должен быть сохранен даже если космология «раздавливает человека под грудой астрономических фактов».
Богословская преданность в феноменологическом модусе
В своей внутренне присущей конструктивной и критической функции по отношению ко всем спонтанным проявлениям социальности, включая вопрошание о вселенной, богословие являет себя в феноменологическом модусе познания, то есть в модусе, который изучает, анализирует и квалифицирует состояния человеческого сознания, соотнося их с присутствием божественного в самом человеке. Богословие имеет дело с неопосредованным божественным присутствием в мире, открытым человеку и переживаемым им в самом факте жизни. Однако, в этой своей критической функции богословие, в отличие от классической феноменологии, (которая, по сути дела, была отрицанием любой возможности трансцендирования вовне человеческой субъективности), предполагает «прорыв» к божественному, как основанию фактичности любого акта познания и осознания божественного. Нетрудно видеть, что феноменология в таком понимании подвергается некой модификации самой богословской преданностью. Это не есть прежняя классическая феноменология Гуссерля и его последователей, для которых религиозные феномены и богословие вообще представляли серьезную проблему 73. Это также не есть та феноменология, в которой «Бог» должен быть вынесен за скобки феноменологической редукцией 74. Следование богословской преданности в феноменологии приводит к тому, что было названо французским философом Д. Жанико (D. Janicaud, 1937–2002) «богословским поворотом» в феноменологии 75. С точки зрения последнего, такой поворот глубоко проблематичен, ибо он отклоняется от исходных задач феноменологии. Это породило во Франции и за ее пределами оживленную дискуссию о возможности использования феноменологии для экспликации богословского опыта и наоборот. В частности, обсуждался вопрос о возможности трансцендирования: позволяют ли феномены, связываемые с присутствием божественного, действительно удержать в них нечто такое, что не исчерпывает их и не позволяет осуществлять их присвоение сознанием. Для того, чтобы прояснить то, о чем здесь идет речь, уместно процитировать Т. Торранса, ссылающегося на вопрос, поставленный Карлом Бартом: « “Как нам удается мыслить то, о чем мы не можем мыслить вообще, используя средства этого мышления? Как нам удается говорить о том, что мы не можем высказать вообще, используя языковые средства?” В реальном познании Бога всегда остается несоответствие между Богом, как познаваемым, и человеком, как познающим. Однако, если исходить из того, что познание Бога все же осуществимо, то оно должно исходить из реальности и благодатности познаваемого Объекта (то есть из того, что происходит при любом действительном познании, в котором реальность вещей при нашем благоволении являет себя нам и действует на нас даже в том случае, когда связь между нашим познанием и языком с реальностью вещей несводима к исключительно внутренним отношениям мышления и речи). Итак, мы поставлены перед жесткой альтернативой: либо погрузиться в полное безмолвие, то есть не задавать даже вопросов скептического толка и не вопрошать о разумности природы или законах мышления…; либо же задавать вопросы только изнутри круга познания для того, чтобы подвергнуть испытанию природу и возможности структур разума» 76. Резюмируя, можно сказать, что по сути здесь затрагивается проблема, присущая философской теологии постмодерна, а именно, как можно говорить о том, что трансцендентно? Или, более формально, как можно говорить о том, что несоизмеримо с языком и порядками концептуального мышления? Как можно концептуализировать то, что принципиально не-концептуально или до-концептуально, до-теоретично? Не будет ли речь о явлениях, не допускающих концептуализации, неким насилием над этими явлениями, cводящими их явленность к кругу имманентного сознания, таким образом, лишая их инаковости, то есть того, что остается в них за пределами феноменализации в сознании? 77
Явления, о которых идет речь, изменяют установку трансцендентальной философии на априорный характер познавательных способностей и возможность конституирования феноменов как феноменов сознания. Богословие в данном случает получает большую выгоду от происходящей философской дискуссии, ибо позволяет выразить преданность, основанную на вере с помощью современного языка. Но это означает также и то, что Православное богословие, имея обязательства по отношению к разуму, может быть теоретически продвинуто к тому, чтобы его диалог с наукой стал еще более артикулированным в современных языковых и смысловых формулах 78.
Однако, богословская преданность подразумевает не только новое освоение материала и языка, присущего современной науке и философии. То есть речь идет не только о богословии как языковом выражении веры, а о вере как таковой. Имеется ввиду вера в контексте Церкви как созданной Богом среде и человеческом пространстве, для того, чтобы человечество выполнило свою спасительную функцию. И поэтому богословская преданность как движение «за пределы секулярного разума» предполагает укрепление веры и стяжание нового церковного опыта Бога, ибо без этого опыта «истинное богословие» невозможно. Если этот опыт отсутствует, богословие вырождается в академические спекуляции о том, что не наблюдается и плохо понимается. Оно становится разновидностью секулярного мышления, привязанного к той или иной культурной традиции. Легко понять, что диалог подобного секуляризованного богословия с наукой не имеет экзистенциального смысла, ибо наука не подвергается испытанию жизненной верой, то есть верой в предопределение человеческого существования. Без этой веры наука, как мы уже отмечали выше, рискует стать демоническим средством, способным превзойти границу человеческого, незамеченную моральным, то есть богословски преданным разумом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: