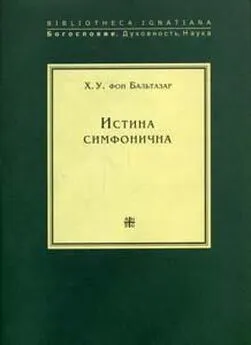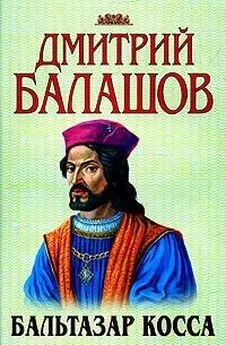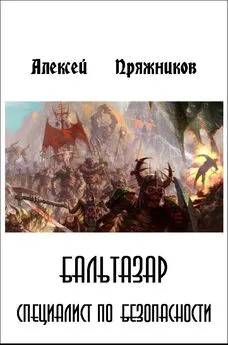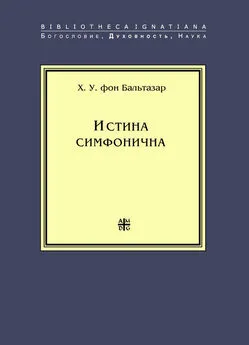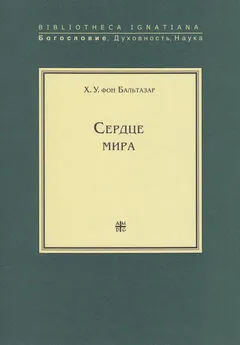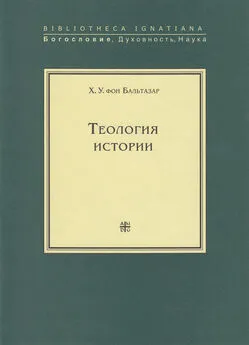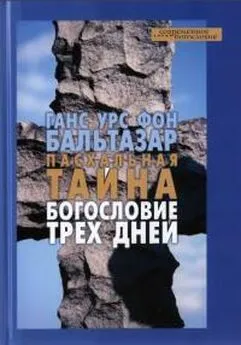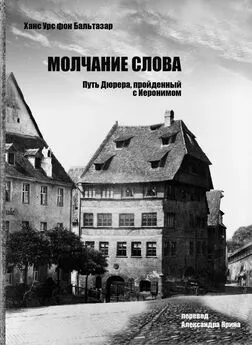Ханс Бальтазар - Истина симфонична
- Название:Истина симфонична
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Институт философии, теологии и истории св. Фомы
- Год:2008
- ISBN:978-5-94242-032-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ханс Бальтазар - Истина симфонична краткое содержание
О том, что христианская истина симфонична, следует говорить во всеуслышание, доносить до сердца каждого — сегодня это, быть может, более необходимо, чем когда-либо. Но симфония — это отнюдь не сладостная и бесконфликтная гармония. Великая музыка всегда драматична, в ней постоянно нарастает, концентрируется напряжение — и разрешается на все более высоком уровне. Однако диссонанс — это не то же, что какофония. Но это и не единственный способ создать и поддержать симфоническое напряжение…
В первой части этой книги мы — в свободной форме обзора — наметим различные аспекты теологического плюрализма, постоянно имея в виду его средоточие и источник — христианское откровение. Во второй части на некоторых примерах будет показано, как из единства постоянно изливается многообразие, которое имеет оправдание в этом единстве и всегда снова может быть в нем интегрировано.
Истина симфонична - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
То же самое относится к диапазону божьего слова как высказывающего нечто о Боге. Попадая в поток времени, одно слово становится множеством слов. Человек узнаёт о Боге многое: он могуществен, справедлив, милосерд, он всегда выдвигает определенные и очень точные требования, держит свои обещания, воздает людям за дела до четвертого поколения, наказывает врагов Израиля, но наказывает и Израиль руками его врагов, он вкладывает свое слово в уста избранных, и эти избранные, носители его слова, обладают таинственной властью у Бога: они могут вымолить спасение, но могут и низвести с Неба проклятье… Все это и многое другое человек знает о Боге. Сложился определенный плюрализм высказываний и утверждений: человек накопил о Боге знания исторического, профетического и законоустановительного характера. Но вот что странно: все эти утверждения говорят не столько о том, что такое Бог, сколько о том, кто он. Мы все остаемся в некоем ожидающем бездействии перед лицом его свободного откровения. («Номиналистам» отчасти удалось верно почувствовать это, но они не смогли этого правильно выразить.) Часто эта свобода Бога кажется похожей на произвол (potentia absoluta). Бог, например, может гневаться, но затем умягчиться в ответ на слово Моисея. Он может объявить о разрушении Ниневии — и, к досаде пророка, простить ее. Может велеть помазать человека на царство и потом из-за небольшого, казалось бы, проступка его низвергнуть. В действительности, однако, это не произвол, но совершенная и суверенная свобода, которая ни одним словом себе не противоречит — это доказывает Павел на примере отвергнутого Израиля и помилованных язычников (Рим 11, 29). Однако в каждом новом случае невозможно, должным образом упорядочив высказывания, заранее сказать о том, как именно в этом парадоксальном отношении Бога выявятся и подтвердятся его неизменные «свойства» (истинность, благость, справедливость, верность, милосердие). Именно беззаботность, с которой его слово изливает множественные, на поверхностный взгляд, не сводимые воедино сведения об отношении Бога к миру (и тем самым о самом Боге), свидетельствует о его неслыханной суверенной и абсолютной самоопределенности, которую можно заподозрить в самопротиворечии, лишь впав в противоречие с самим собой. Человеку всегда хотелось упорядочить многообразные аспекты истины согласно какому-нибудь удобному принципу. Если, однако, свобода говорящего Бога (которая есть также его истина и его верность) с очевидностью является единственным принципом, в соответствии с которым это слово может быть понято и раскрывает свой смысл, то человек должен отказаться от исключительного обладания этим принципом. Он может получить его не иначе как посредством непрекращающегося дарения и должен, поскольку этот принцип является свободным всеопределяющим Богом, именно с Богом соотносить множественность Божьего слова, данную в единстве веры, послушания и понимания.
Вера предполагает в человеке сдержанность, самоотречение, полное принятие всех действий говорящего Бога. Лишь предоставив простор божьему слову во всей его множественности, верующий может уловить смысл, который вложил в него Говорящий. Этот смысл есть не что иное, как сам Говорящий, поскольку он желает себя сообщить. Это — всеобъемлющий, всепроницающий и в конечном счете всеосмысляющий смысл каждого отдельного слова (при этом мы всегда исходим из того, что все слова Бога деятельны и действенны). Для обозначения такого свободного самосообщения у нас есть слово любовь. Итак, это единственный герменевтический принцип, необходимый для понимания Библии. Если о нем забыть или отстранить его ради другого принципа, мы тотчас же потеряемся в лабиринте предметных толкований, из которого нас, как нить Ариадны, способен вывести лишь персоналистический принцип толкования. Израиль хорошо понимал это, когда сформулировал «наибольшую» заповедь как ответ на откровение Бога: как любовь— всем сердцем, всей душой, всей крепостью человека. И дал понять прекрасной в своем благоговении недоговоренностью, что этот всеобъемлющий ответ есть не что иное, как только эхо смысла божьего слова, точнее, общего смысла всех его слов.
При этом, по инициативе самого Бога, выходит в явь то, чем начинает светиться весь религиозный мир, стоит ему освободиться от затемнений демонического страха и столь же демонической страсти к овладению: в основе своей это не сама по себе «потребность» преклонения перед чем бы то ни было, но осознание некоего акта приятия, каковой акт требует высвобождения духовного пространства, требует тишины, вслушивания, веры, необходимой для понимания, — но и отказа от попытки понимать собственными силами, с тем чтобы Приходящее и Всецелое само могло себя истолковать. У народов, не расслышавших или едва уловивших ясное слово, прозвучавшее в Израиле, место этого слова заняли техники вслушивания в тишину, совсем не обязательно ложные, но все же не вполне достигающие своей цели. При всем своем разнообразии эти техники сводятся к некоему трансцендирующему акту, который почти всегда требует или предполагает состояние открытости и готовности. Поскольку Абсолютное нигде не говорит с такой определенностью, как в Израиле, множественность мировых явлений воспринимается гораздо менее внятно, чем слова, наглядно несущие смысл абсолютного само-сообщения. Множественность мира в той или иной мере осмысляется как нечто несущественное и выносится за скобки сущностного религиозного опыта. Израиль же, напротив, находится во всяком случае на пути к тому, чтобы на основе откровения слова истолковать иероглифику космоса как высказывание Бога. Однако прежде невероятная возможность истолковать таким же образом язык человеческой экзистенции впервые появилась, когда Бог во Иисусе Христе сам решил овладеть этим языком. Проблемы множественности перекочевали из Ветхого Завета в Новый, заострившись при этом во многих отношениях.
c) Слово Бога Иисус Христос
Иисус Христос и есть это свободное, суверенно действующее и возвещающее Слово Бога в образе человеческой жизни, включающей в себя рождение и смерть, радость и боль, родство и близость как свои неотъемлемые артикуляции. Недоступный в своей свободе свет, нисходя, фокусируется в этом человеке, при этом необходимо оставаясь собой: как «слава в вышних», но окончательно раскрывая себя в качестве того, чем он был и раньше: как «доброта и человеколюбие» (Тит 3, 4), как кротость и смирение (Мф 11,29).
Отныне все бесконечно усложняется — именно в силу кажущегося взаимопроникновения. Усложняется настолько, что впору было бы отчаяться, отказавшись от попыток что-либо понять и сформулировать с человеческой точки зрения — если бы не Иисусово: «Это Я, не бойтесь» (Мф 14, 27) и звучащее как обещание: «Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мф11,25).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: