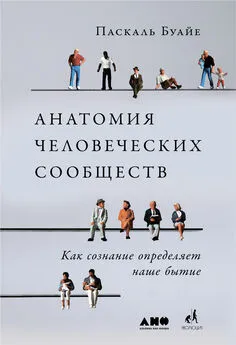Паскаль Буайе - Анатомия человеческих сообществ [Как сознание определяет наше бытие] [litres]
- Название:Анатомия человеческих сообществ [Как сознание определяет наше бытие] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Альпина
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-0013-9180-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Паскаль Буайе - Анатомия человеческих сообществ [Как сознание определяет наше бытие] [litres] краткое содержание
Сопоставляя последние достижения эволюционной биологии, психологии, генетики, экономики и других научных дисциплин, автор представляет новый взгляд на устройство человеческих обществ. Буайе убедительно доказывает, насколько значимую роль когнитивные процессы играют в том, как люди выстраивают иерархии, семейные и гендерные нормы, как возникают межгрупповые конфликты и этнические стереотипы.
В фокусе его внимания находится принципиальный вопрос: как выработанные в ходе эволюции способности и предрасположенности человека объясняют то, как мы живем в обществе? И почему данные естественных наук критически важны для понимания исторических событий и социальных процессов?
Анатомия человеческих сообществ [Как сознание определяет наше бытие] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эти специальные способности задействованы в усвоении информации о предметах, орудиях и инструментах, а не знаний вообще. Это объясняет, как передача информации позволяет людям построить каяк на основе внимательных наблюдений, умозаключений и обширной практики, а также общения с компетентными людьми. Благодаря этим когнитивным способностям, несомненно, возникают специфические когнитивные аттракторы в области передачи технологии, то есть сочетания идей, которые с большей, чем прочие, вероятностью будут включены в устойчивые технические традиции, хотя пока что никто систематически не изучал влияние технических знаний на изменение технологии в целом.
Исследование эволюционно сформированных технических наклонностей может также помочь ответить на важнейший вопрос о технологических изменениях, а именно о возможности накопления и прогресса. В частности, мы могли бы попытаться понять, как наши технические наклонности способствуют возникновению инерционного эффекта (также известного как «эффект храповика», ratchet effect), процесса, в ходе которого одни технологии, развившись, уже не исчезают, а другие строятся на базе предшествующих, не заменяя их. Стоит появиться новой технологии, и она, скорее всего, сохранится, что в целом характерно для производства оружия, сельского хозяйства, металлургии и многих других видов деятельности.
Нередко возникает искушение объяснить возникновение и накопление эффективных технологий характерным свойством человеческого организма, предположив, например, что современный прогресс Homo sapiens после тысячелетий застоя объясняется особым видом подражания или неким радикально новым способом мышления. Но мы должны помнить, что техника и технология – это не просто придумавшие их умные люди. Это также популяционный феномен, возникающий, когда связи между людьми выстроены должным образом, а сами люди реагируют на нужные побудительные стимулы. В этом смысле археология и история могли бы предположить три главных обстоятельства, объясняющих позднее возникновение кумулятивной технологии.
Первое – это разделение труда, необходимое условие для создания технических устройств, которые, соединившись, позволяют продвинуться намного дальше, чем позволил бы одиночный разум. Минимальный уровень разделения труда между полами был известен людям на протяжении сотен тысяч лет. Мы знаем, что даже технологически примитивным сообществам известно некоторое разделение задач в соответствии с навыками людей и польза от этого сравнительного преимущества. Однако антропологические данные свидетельствуют, что этот прогресс быстро упирается в демографический потолок. Преимущества специализации сказываются по-настоящему, только когда она охватывает большое количество людей, но что значит в данном случае «большое», все еще остается нерешенной эмпирической проблемой.
Второе обстоятельство, связанное с первым, состоит в том, что сообщества могут преодолеть демографические ограничения посредством обмена с окружающими группами. Объясняется это тем, что обмен прежде всего подразумевает знакомство людей с разными традициями и тем самым, говоря словами Мэтта Ридли, открывает путь «совокуплению идей», то есть люди получают возможность комбинировать звенья из разных цепей передачи культуры [531] Ridley, 2010.
. Другими словами, обмен увеличивает количество и разнообразие цепей трансмиссии, способствуя их распространению, которое поддерживает и меняет традиции [532] Morin, 2016, pp. 125ff.
.
Третье обстоятельство, наиболее тесно связанное с ускорением технологических перемен в больших цивилизациях, это, конечно, широкое распространение грамотности, резко увеличивающее объем технической информации, которую можно передать. Кроме того, грамотность способствовала появлению чертежей, планов, табличных данных и других инструментов, постепенно превративших умелых ремесленников в первых инженеров [533] Goody, 1977, 1986.
.
Таким образом, чтобы добиться кумулятивной технологии и затем ускоряющегося технического прогресса, нужны не какие-то особые или качественно новые мозги, а создание условий, в которых умы людей могли взаимодействовать. Когнитивные задатки, связанные с изготовлением орудий, а позже применяемые в сложных технологиях действительно носят особый характер – они возникли в ходе эволюции человека благодаря тем преимуществам для выживания, которые давали людям различные орудия и инструменты, и именно поэтому люди удивительно хорошо «понимают» их.
Почему люди верят в противоположность культуры и природы?
Каждую главу основной части книги я начинал с конкретного вопроса, на который должны ответить науки о человеческом обществе. Вы не найдете здесь определенных ответов ни на один из этих вопросов, но в книге содержится немало информации о том, каким образом можно поставить эти вопросы в интегрированном описании человеческих сообществ, основанном на данных и моделях, почерпнутых из программ разнообразных научных исследований. Я нигде не ссылаюсь на какие-либо границы или различия между «природным» и «приобретенным», на природу как противоположность культуре. Я убежден, что информации в этих главах достаточно для того, чтобы вести исследования, не обращая внимания на эти туманные оппозиции.
Но эти бессмысленные разграничения широко распространены и, несмотря на все усилия настоящих ученых, мелькают в журналистских материалах об исследованиях человеческого поведения, где какое-то конкретное поведение именуется «врожденным» или «биологическим» в противовес «культурному» или «приобретенному». Некий вариант противопоставления природы и культуры с сопутствующими темами противопоставления универсального и непостоянного, физиологического и умственного, неизменного и изменчивого до сих входит в число важнейших постулатов того, что Джон Туби и Леда Космидес назвали «стандартная модель общественной науки» [534] Tooby and Cosmides, 1992.
. Такие разграничения, к сожалению, искажают вполне компетентные в других отношениях дискуссии о поведении людей, генетике, эволюции и культурных различиях. На чем основана их поразительная популярность?
Вот умозрительное объяснение. Противопоставление природы и культуры может быть одним из тех общих культурных аттракторов, о которых я упоминал. Так же как представление о несчастье, навлекаемом зловредными силами, или о социальной группе, обладающей особой сущностью, противопоставление природы и культуры может являться результатом наших интуитивных и сознательных мыслительных процессов, а потому будет воспроизводиться вновь и вновь – в разных обличьях, но со сходным набором принципов, в разное время и в разных местах, пусть даже и не во вполне логически связном виде и несмотря на то, что во многом эта идея опровергается достоверными научными данными.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Паскаль Буайе - Анатомия человеческих сообществ [Как сознание определяет наше бытие] [litres]](/books/1075472/paskal-buaje-anatomiya-chelovecheskih-soobchestv-kak.webp)
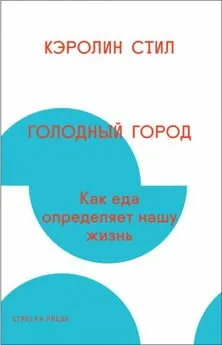

![Илья Кнабенгоф - Анатомия шоу-бизнеса [Как на самом деле устроена индустрия] [litres]](/books/1059140/ilya-knabengof-anatomiya-shou.webp)
![Джесси Шелл - Геймдизайн [Как сознание определяет наше бытие] [litres]](/books/1075468/dzhessi-shell-gejmdizajn-kak-soznanie-opredelyaet-na.webp)
![Джей Эшер - Наше будущее [litres]](/books/1091325/dzhej-esher-nashe-buduchee-litres.webp)
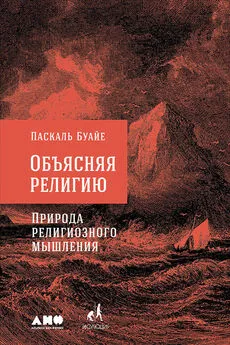
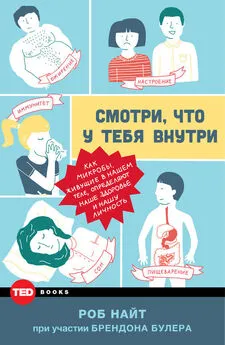
![Олег Панков - Как очки убивают наше зрение [litres]](/books/1145718/oleg-pankov-kak-ochki-ubivayut-nashe-zrenie-litres.webp)