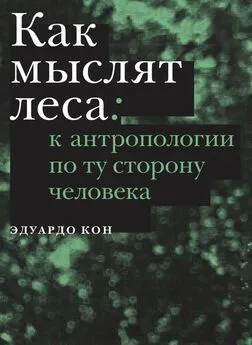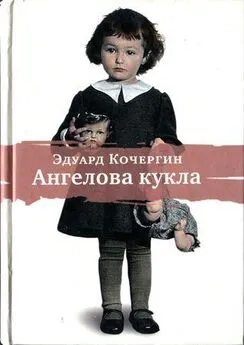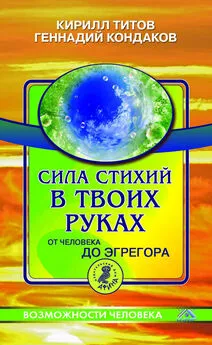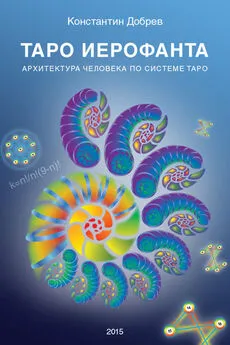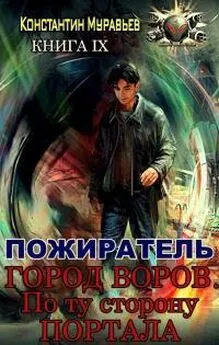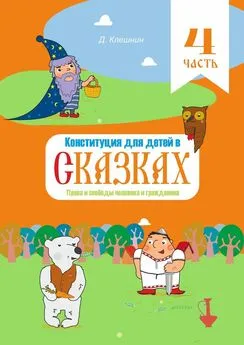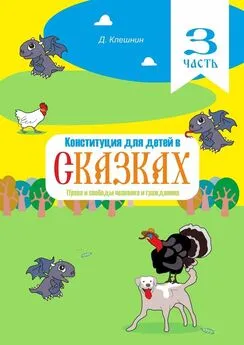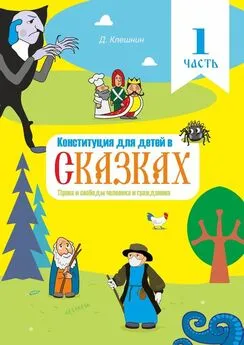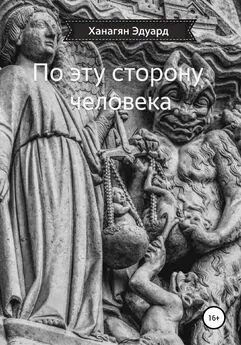Эдуардо Кон - Как мыслят леса. К антропологии по ту сторону человека
- Название:Как мыслят леса. К антропологии по ту сторону человека
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ад маргинем
- Год:2018
- Город:М.
- ISBN:978-5-91103-434-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдуардо Кон - Как мыслят леса. К антропологии по ту сторону человека краткое содержание
Как мыслят леса. К антропологии по ту сторону человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Четвертая глава под названием «Межвидовой пиджин» также посвящена проблемам сожительства и соотнесения с самыми разными видами самостей в обширной экологии самостей. В этой главе обсуждаются способы безопасной и успешной коммуникации со многими видами существ, населяющих космос. Как понимать и быть понятным для существ, чья способность воспринимать человеческий язык постоянно вызывает сомнение, – трудный вопрос сам по себе. Успешная коммуникация с этими существами может обладать дестабилизирующим эффектом. В некоторой степени общение всегда предполагает единение, то есть общение с другими влечет за собой частичку того, что Харауэй (2008) называет «становлением с» («becoming with») другими. Предполагается, что такое становление расширяет спектр способов бытия, но вместе с тем оно может поставить под угрозу отчетливое ощущение человеком своей самости, которое руна, несмотря на стремление к расширению, также стараются сохранить. Поэтому творческие стратегии, с помощью которых жители Авилы открывают каналы коммуникации с другими существами, одновременно замедляют этот трансгрессивный процесс, который в иных обстоятельствах может быть очень продуктивным.
Значительная часть этой главы представляет семиотический анализ попыток человека понять собак и быть понятым ими. Например, жители Авилы пытаются толковать сны своих собак и даже дают им галлюциногены, чтобы иметь возможность дать собакам совет, переходя в процессе на своего рода межвидовой пиджин, свойства которого довольно неожиданны.
Особенный характер отношений человека и собаки обусловлен отчасти их связью с другими отношениями. Вместе с собаками и с их помощью люди связаны как с более широкой лесной экологией самостей, так и со слишком человеческим социальным миром, простирающимся за пределы Авилы и окружающих лесов и вобравшим в себя следы колониального наследия. Эта глава и две последующие рассматривают реляционность в этом более широком смысле. В них обсуждаются отношения руна не только с лесными существами, но и с духами, и с могущественными человеческими существами, изменившими местный ландшафт.
Распутать клубок отношений руна с собаками, живыми обитателями леса, их бесплотными, но реальными духами и множеством других субъектов, на протяжении истории занявших свое место в мире руна – землевладельцами, священниками, колонистами, не представляется возможным. Все они являются частью экологии, благодаря которой руна стали теми, кто они есть. Однако я не поддаюсь соблазну считать этот узел отношений непреодолимой сложностью. Направив пристальное внимание на конкретные модальности попыток коммуникации с другими видами, мы можем многое узнать об этих отношениях и реляционности вообще. Эти попытки коммуникации обнаруживают ряд формальных свойств, присущих понятию взаимоотношения, – определенную логику объединения, набор ограничений, которые нельзя назвать случайными продуктами земной биологии или человеческой истории: они проявляют себя как в биологии, так и в истории, тем самым давая им обеим конкретное наполнение.
Иерархия – свойство, интересующее меня больше всего. Жизнь знаков отличается массой однонаправленных и вложенных [nested; находящихся в иерархических отношениях по принципу матрешек. – Ред. ] логических свойств – свойств крайне иерархичных. И все же в нашем оптимистичном политическом проекте мы ставим гетерархию превыше иерархии, предпочитаем ризому ветвлению дерева и радуемся существованию в живом мире таких горизонтальных процессов, как горизонтальный перенос генов, симбиоз, комменсализм и т. д. Такое основание для политической программы кажется мне неверным. Мораль, как и символы, зарождается не за пределами человеческой сферы, а внутри ее. Когда мы переносим нашу мораль, справедливо ставящую на первое место равенство, на реляционный ландшафт, в основе которого лежат вложенные и однонаправленные объединения логики и онтологии (но не морали), это является формой антропоцентричного нарциссизма, затмевающего некоторые свойства мира по ту сторону человека. В результате мы оказываемся неспособны использовать их в политических целях. Поэтому в данной главе предпринимается попытка описать, как моральные миры захватывают и задействуют эти вложенные отношения, не являющиеся при этом плодами этих моральных миров.
В пятой главе под названием «Непринужденная эффективность формы» я развиваю упомянутую ранее идею антропологической значимости формы. Иными словами, эта глава – о появлении в мире конкретных конфигураций пределов возможного, о своеобразности распространения того, что осталось за этими пределами, и о том, как эти отброшенные элементы влияют на жизнь людей (и не только) в лесах вокруг Авилы.
Форму тяжело рассматривать с антропологической точки зрения. Не являясь ни разумом, ни механизмом, она плохо вписывается в унаследованную со времен Просвещения дуалистическую метафизику, которая и сегодня, пусть мы и не всегда отдаем себе в этом отчет, подталкивает нас к анализу причины либо с механистической перспективы стимула и реакции (pushes and pulls), либо с перспективы значения, цели и желания, обычно относимых к сфере человеческого. До сих пор главное место в книге отводилось развенчанию некоторых наиболее устойчивых примеров наследия этого дуализма: для этого были выявлены последствия осознания того, что значение в широком смысле является неотъемлемой частью живого мира по ту сторону человека. Отличие этой главы заключается в попытке шагнуть еще дальше: я выхожу не только за пределы человека, но и за пределы самой жизни. В ней рассказывается о странных свойствах распространения паттернов, выходящих за границы жизни, несмотря на то, что они при этом используются, питаются и усиливаются ею. В тропическом лесу, кишащем самыми разными формами жизни, размножение этих паттернов достигает небывалого масштаба. Чтобы взаимодействовать с лесом на его условиях, проникнуть в его логику отношений и мыслить вместе с ним, нужно чутко реагировать на эти паттерны.
Таким образом, под «формой» я понимаю не концептуальные структуры, будь то врожденные или приобретенные, с помощью которых люди постигают мир; не имею я также в виду идеальную платоническую реальность. Речь идет о странном, но тем не менее земном процессе производства и распространения паттернов, который Дикон (2006, 2012) назвал «морфодинамикой». Своеобразная генеративная логика этого процесса проникает во все живые существа по мере того, как они овладевают ей.
И хотя форма – не разум, не похожа она и на вещь. Еще одна сложность для антропологии заключается в том, что у формы нет осязаемой инаковости, типичной для этнографического объекта. Когда находишься внутри ее, не от чего оттолкнуться; форму невозможно определить через ее сопротивление. Ее нельзя прощупать – она не поддается такому способу познания. Кроме того, форма хрупка и недолговечна. Подобно вихрям водоворотов, которые порой образуются в быстротечных водах Амазонки, она просто-напросто пропадает, когда исчезает поддерживающая ее специфическая геометрия ограничений. Поэтому, как правило, она остается вне поля зрения стандартных способов анализа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: