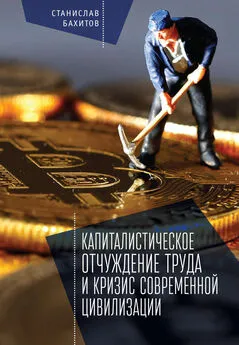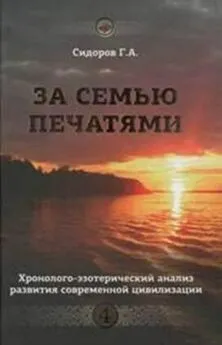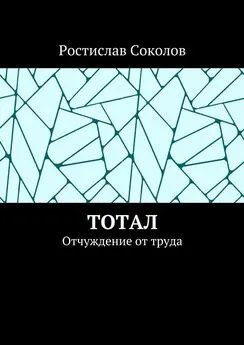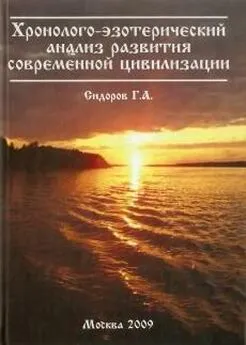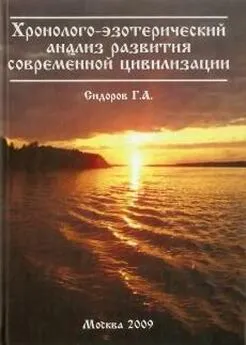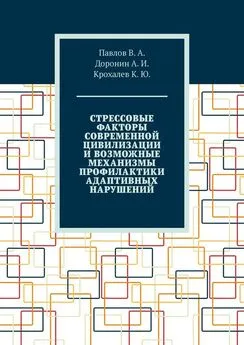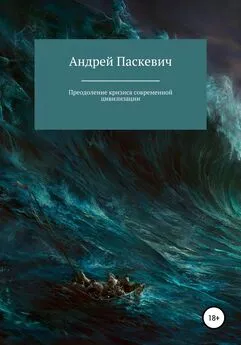Станислав Бахитов - Капиталистическое отчуждение труда и кризис современной цивилизации
- Название:Капиталистическое отчуждение труда и кризис современной цивилизации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-907030-21-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Бахитов - Капиталистическое отчуждение труда и кризис современной цивилизации краткое содержание
Исследование основывается на материалах философских, социологических и исторических работ.
Капиталистическое отчуждение труда и кризис современной цивилизации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Общий итог функционирования нового глобального порядка в политике и экономике неутешителен: «Глобальное состояние войны и конфликт, порожденный односторонней военной политикой, имели серьезные разрушительные последствия для мирового производственного и торгового оборота. Подводя итог, можно сказать, что односторонняя вооруженная глобализация по американскому образцу породила новые препятствия и помехи, мешающие тем мировым хозяйственным сетям, которые возникли в предшествующие десятилетия. На наличие самого важного кризиса нынешнего глобального режима хозяйствования, с точки зрения его собственной аристократии, указывает тот факт, что в сегодняшнем мире в него вовлечена столь незначительная часть общего производственного потенциала. Большие и растущие группы мирового населения влачат нищенское существование, будучи лишены возможностей и доступа к образованию. Многие страны отягощены государственными долгами, которые истощают их жизненно важные ресурсы» [129, 387].
Социальной средой существования новой интернациональной олигархии стала корпоративная «демократия». М. Кантор иронично отмечает: «Возник поистине водевильный курьез: гражданин может почувствовать себя таковым (то есть имеющим право на свое мнение, свободу выбора, совести и прочее) только при условии функционирования такой общественной модели, где его мнение не значит решительно ничего. Он не вправе знать (и не знает), куда главы корпораций кладут его деньги; он не может знать (и не знает), какой будет его завтрашний день; он не в состоянии узнать (и ему никто никогда не расскажет), каковы перспективы у страны (ресурсов, земель, недр, сокровищ), где он объявлен равным прочим гражданам» [57, 120]. Как сказал бы Э. Фромм, модель рыночной (то есть предельно отчужденной) личности победила повсеместно. Вместо морали общего блага возникла корпоративная мораль: «Армия, наука, искусство оправдывают свое существование не служением обществу, но тем, насколько данная корпорация успешна» [57, 125].
А тем временем готовится бунт сытых: «Бунт сытых – это война. Война – и те явления, что сопровождают и подготавливают смертоубийство. Уровень инфляции, демографические проблемы, миграции населения, переделы границ, межбанковский процент, ставки по кредитам – слова эти звучат профессионально сухо, кажется, прямой опасности в них нет, на деле они так же смертельны, как термины “карательный отряд” и “зачистка местности”. Это все – бунт сытых, так сытые мстят миру за свое беспокойство» [57, 130]. Сам М. Кантор ищет выход в сфере сознания: перестать жить «по понятиям» корпораций, создать новый самостоятельный социальный язык и новую эстетику, признать приоритет принципа братства над принципом соревнования [57, 136]. Но на наш взгляд, все это возможно только при изменении способа производства. И здесь требуется в первую очередь, о чем позднее напишет и сам М. Кантор, отказаться от сумбурной идеологии, утверждающей, что существует только одна цивилизация – рыночно-демократическая, пересмотреть итоги приватизации, перестать быть управляемым стадом [57, 308–310]. В рыночном обществе и эстетика рыночная.
По мнению М. Кантора, воплощением рыночной эстетики мещанства в ХХ века стал сначала стиль модерн, а затем постмодернизм и авангард. Бунт постмодерна и авангарда тоже был бунтом сытых: «Собственно, постмодернизм (в том числе и российский постмодернизм: Кабаков, Пригов, Рубинштейн и т. п.) был защитной реакцией культуры на экзистенциализм. Определенность надоела, прискучил пионерский героизм, надоело равенство в беде – захотелось веселого ни к чему не привязанного дискурса, свободы! Захотелось личной независимости, и прежде всего – от тусклой народной судьбы. “В будущее возьмут не всех”, – гласила программная фраза концептуалиста Кабакова. А вот Толстой учил, что брать надо всех. И Маяковский про это же говорил. И Высоцкий про это пел» [57, 215–216]. В этом отказе от общей с народом судьбы четко просматривается самодовольная рожа мещанина эпохи модерна: «Мещанин полагал, что все то, что беспокоит его – суть варварство; грядущие гунны нависли тучами над миром, но туча непременно рассосется – варвары не могут победить культуру. Чтобы противостоять нашествию дикарства, строили особняки с лебедями» [57, 315]. Аутизм – родовая черта мещанина-интеллигента: «Читаешь строки поэтов, написанные в 13-м году про графа Калиостро, про “недомалеванные” вуали, разглядываешь бесконечные букеты сирени – и диву даешься: разве художники не понимали, что произойдет завтра? А потом спрашиваешь себя: а разве сегодня мы понимаем?» [57, 317]. По мнению М. Кантора, интеллектуальный релятивизм модерна и постмодерна – это защита от революции (хотя, на наш взгляд, есть и исключения, например, тот же З. Бауман), это растянувшаяся на столетие с лишним агония городского мещанина [57, 320]. Сам же М. Кантор считает, что Дух Божий нисходит на картину, если картина сострадает униженным и оскорбленным [57, 322].
Сходные мысли за столетие до М. Кантора высказывал и Р. Иванов-Разумник: «Декаденство, с самого начала своего зарождения, было стремлением “за пределы предельного” и разрывом с обыденностью; но тут же надо сказать, что стремление это было далеко от проникновения за пределы предельного и, следовательно, было уже знакомым нам эстетическим псевдоромантизмом. Типичные реалисты по типу миропонимания, наши российские декаденты в поте лица пытались создать что-либо “необыденное”, выходящее за пределы третьего измерения; в этом отношении у них была охота смертная, да участь горькая: не будучи в состоянии проявить в образах несродный им тип сознания, они ухватились за внешность, за форму и сделались духовными наследниками Бестужева-Марлинского и Бенедиктова; манерная напыщенность, ходульность, риторика, запутанность и туманность образов – все это хорошо знакомые нам качества эстетического псевдоромантизма» [47, 497]. И вот итоговая оценка: «…декаденство было по существу и анти-индивидуалистическим, и мещанским течением, вышедшим из недр не столько русской интеллигенции, сколько русского “культурного” общества» [47, 499].
Ситуация повторяется в ухудшенном варианте. Как сказал бы К. Маркс, сначала была трагедия, а потом – фарс. Законы политэкономии неумолимы. Если нет классовой борьбы трудящихся (в том числе интеллигенции), а рост производительности труда делает большую их часть излишней для материального производства, то такие «бесполезные» трудящиеся должны или стать безработными, или умереть (от войны, голода, болезней и т. п.), или превратиться в бесправную обслугу правящей элиты. Надежды большинства новых интеллигентов-креативщиков на особый статус ложны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: