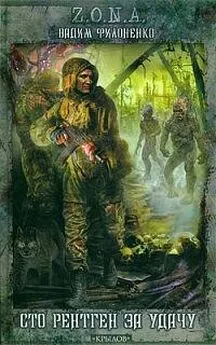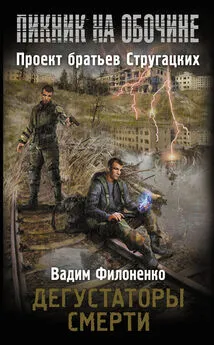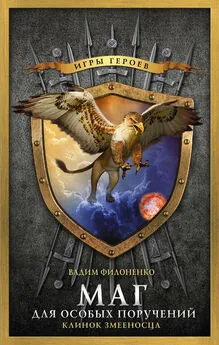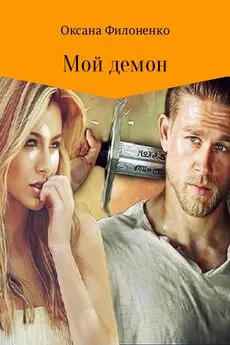Иван Филоненко - Хлебопашец
- Название:Хлебопашец
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Госкомиздат СССР
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Филоненко - Хлебопашец краткое содержание
Богатая событиями биография выдающегося советского земледельца, огромный багаж теоретических и практических знаний, накопленных за долгие годы жизни, высокая морально-нравственная позиция и богатый духовный мир снискали всенародное глубокое уважение к этому замечательному человеку и большому труженику. В повести использованы многочисленные ранее не публиковавшиеся сведения и документы.
Хлебопашец - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Отец кличет. Книгу на полатях нашел,— сказала она, не зная, как и быть теперь, оборонить как. Потом, решив что-то, посоветовала: — Ты уж за мной иди. Может, двоих-то не тронет.
Трудно им было переступить порог, а надо. Переступили и остановились.
— Зачем книга тут лежала? — сурово спросил отец, однако с места не тронулся.
— Читал... — почти шепотом признался Терентий.
— Твоя?
— Нет, чужая, дали мне...
Отец достал рукой сына, взял за грудки и швырнул на полати.
— Сиди там и никуда не выходи, покуда не вернусь.
Он решил к дедушке Омельяну сходить. Что-то скажет наставник общины?
Дедушка Омельяи полистал книгу, зачем-то похлопал ее ладонью,— Семену показалось, будто побил ее. Значит, греховная.
— Скажи, дедушка Омельян, что с сыном делать? Не уберег я, грамоту он познал.
И сказал белобородый старец:
— Не гневайся на сына, Семен Абрамович. Что сын грамоту познал — не грех. Главное — к чему он ее приложит: к добру или злу. Так что лучше не мешай ему. А чтобы к добру была грамота, надо к делу Тереху приноравливать.
Упал камень с души у Семена.
— И за книгу не брани,— продолжал старец. А раз уж он читать так любит, ты псалтырь ему купи.
— А эту куда ж девать? — спросил Семей, указав на книгу.
— Куда же ее девать — домой снеси. Если не его она, то отдаст, у кого взял. Не годится чужим добром распоряжаться.
Семен, глубоко верующий человек, относился к наставнику, как послушное малое дитя: что сказано, то и делать будет. Хоть и не хотел отдавать сыну книгу— изорвать бы ее в клочья,— однако отдал и велел тут же унести ее из дому, вернуть тому, у кого взял. Хотел пригрозить, чтобы никаких книг в дом больше не носил, но промолчал: хуже будет, если не послушает сын его наказа. А что тот ослушается, в этом он уже и не сомневался. Понял, что не отвадить ему теперь сына от чтения, по глазенкам Терехи догадался — уловил в них не только страх, но и отчаянную жалость, с какой тот смотрел на книгу, оказавшуюся в руках отца.
Приноравливать к крестьянскому делу — значило впрягать в работу. То, что Терентий делал до этих пор, было пусть и не баловством, однако и не обязанностью: при случае коню корм задать или корову на поскотину отогнать, воды из колодца принести или тяпкой на огороде бурьян выполоть. Да и не главная эта работа. Главная — в поле. Бывало, что Терентий охотно и там отцу помогал, однако одно дело помогать, другое — самому с утра до вечера боронить или пахать.
Семена радовало, что и к этому главному делу не надо было ни понуждать сына, ни неволить. Он шел к нему с малых лет. Когда-то для забавы отец смастерил ему плужок — лемех не больше детской ладошки,— которым и забавлялся Тереша с ребятишками: где-нибудь на припеке, куда не залетал ветер, грядки перепахивали. Кто постарше, тот плугом землю ворошил — был пахарем, другой засевал из лукошка, мать старое решето давала, третий тут же боронил такой же крохотной боронкой, а то и пальцами, будто грабельками.
Не попадали тогда в деревню лишь забавные игрушки, не покупал такие мужик на базаре, не ценились они и детворой — пустое. Норовили иметь такие, чтобы «работать» можно, делать отцовское дело.
Игры такие рождали у ребят страстное желание повзрослеть скорее, чтобы можно было запрячь настоящую лошадку и выехать с отцом в поле на пахоту, бороньбу или жатву. Выехать не для того, чтобы за конем в часы отдыха присмотреть или за водой на ключ сбегать, когда отец от жажды изомлеет,— для такой подмоги отец брал сына и раньше. Выехать, чтобы самому боронить, пахать или косить — вот о чем страстно мечтал каждый паренек.
А желание, чтобы оно счастьем стало, должно вовремя сбыться. Ни раньше, ни позже. Раньше сбудется — человек утомиться может, не справится с делом, тяжесть испугает и погасит неокрепшее желание его. Допусти до дела позже срока, когда желанием перетомится, когда лень примется нежить душу и тело, то и не жди тогда старания: человек будет через пень-колоду все делать, лишь бы день до вечера, неведома ему будет радость труда.
Придерживал отец и Терентия. Придерживал, однако учил между делом. А учил так: «Подмогни-ка мне, сынок... Хорошо, молодец». В другой раз скажет: «Поделай-ка, пока отдохну я». Видит, есть и сноровка, и старание, можно и к самостоятельному делу приставлять: «Садись-ка на лошадь, боронить будешь, а я жнивье под овес пахать поеду». И добавил, чтобы сыну ясно было, что не на час остается, а до окончания дела: «Борони, пока семена не заделаешь. Может, шестнадцать, а может, и двадцать следов надо будет сделать».
Вот зачем отец обе лошади запряг (вторая лошадь— от Лысухи приплод). Вот зачем на одну телегу борону положил и мешок пшенички, а на другую сабан. Вот почему одну лошадь выпряг, а другую выпрягать не велел, когда насыпал в лукошко зерна, приладил его на грудь и бережной рукой, по горстке, пошел засевать нивку. Шагнет левой ногой, опишет правой рукой полукруг, и таким же полукругом летит из горстки зерно, по земле рассыпаясь, в трещинки западая.
Нивка невелика, засеял быстро, сказал сыну: «Бо-рони...»—посмотрел, как тот правит лошадью, и, убедившись, что дело это он и без него сделает, поехал на другое поле.
Физических усилий на бороньбе от человека не требуется: сиди верхом на коне да смотри, чтобы вся земля была бороной потревожена. Но старания надо много. И терпения: не один, а шестнадцать заходов по одному месту надо сделать, чтобы все зерна прикрыть земелькою. А борона — рама из деревянных брусьев с железными зубьями — прыгает, не хочет царапать сухую землю, надо приноровиться, к полю присмотреться, выбрать такой ход, чтобы борона меньше прыгала, чтобы всеми двадцатью зубьями рыхлила потрескавшуюся твердую корку.
Так уж в здешних местах повелось издавна — выходили сеять, когда корка на почве подсохнет и растрескается: чем больше трещин, тем лучше, тогда семена западут в них, лягут на ту глубину, где влага есть, где их бороной можно заделать. Однако, чтобы взрыхлить эту корку, требовалось много раз бороной проходить но одному следу.
И все же не эта работа утомляла человека и коня — надсаживались на пахоте. Много сил и сноровки требуется вставшему к сабану — громоздкому неустойчивому, тяжелому деревянному сооружению, поставленному на два деревянных колеса, снятых с тележного передка. Смотри да смотри, держи в руках крепче, чтобы лемех в сторону от борозды не уходил и в борозду не соскальзывал, чтобы лишку не заглубился и наружу не выскочил.
Мучились, уставали на пахоте мужики. Надрывались и тощали кони — к концу пахоты ни в какую упряжь, ни в какую работу уже не годились. Отдых нужен был и хороший фураж. Мужики тоже несколько недель ни за что не брались — все силы на пахоте и севе оставлены. Однако впереди опять была пахота — на паровом поле. И успеть надо до сенокоса — тоже работа не легче.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: