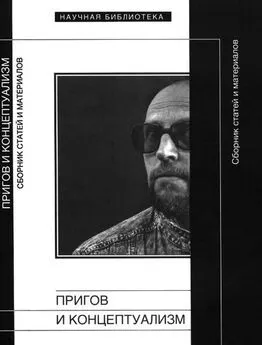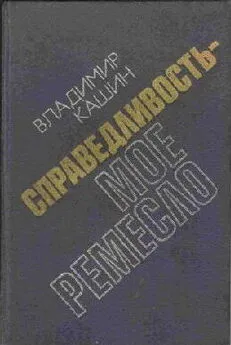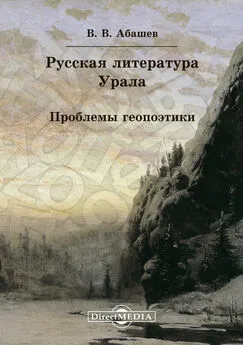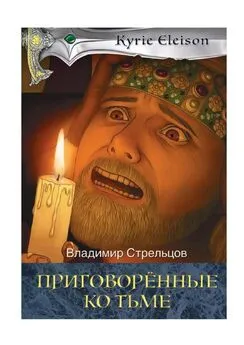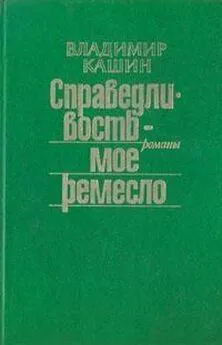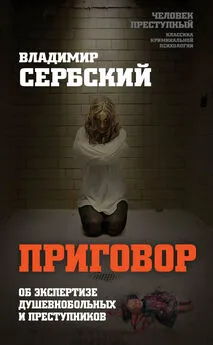Владимир Абашев - Пригов и концептуализм
- Название:Пригов и концептуализм
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0217-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Абашев - Пригов и концептуализм краткое содержание
Пригов и концептуализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В его статьях даже встречаются «внутренние диалоги» — к примеру, в работе «Второй раз о том, как все-таки вернуться в литературу, оставаясь в ней, но выйдя из нее сухим!» (1991): «<���…> так и было написано: складывания. — а я что говорю! — нет, ты смотришь как-то так! — как это так? — как-то так особенно! — хорошо, больше не буду! <���…> — странно! это же не что-нибудь другое, а наука! — а я и смотрю как на науку! — ну ладно…» [109]. Однако эти «подначки» возникают неожиданно в контексте довольно сложного, академического письма, которым ДАП владел мастерски.
Особенно ярко промежуточный, «мерцающий» статус приговских теоретических высказываний заметен в «предуведомлениях», сопровождающих большинство циклов-сборников, в которые Пригов объединял свои тексты. В каждом из «предуведомлений» обосновывается эстетический эксперимент, реализованный в стихах или в прозаических сочинениях соответствующего цикла, и это объяснение, пародийное по смыслу, одновременно призвано решать совершенно серьезные рефлексивные задачи. Комментируя этот жанр в переписке с Ры Никоновой, Пригов предлагал воспринимать его «предуведомления» только как «указатель, указывающий пальцем на место автора вне текста, на отношение его к данной поэтической системе как к одному из возможных языков поэзии» [110], но впоследствии опубликовал их отдельной книгой [111]. Вероятно, он полагал, что к моменту выхода этой книги уже известный читателю контекст его творчества поможет воспринять «предуведомления» как тексты особой, «двоякодышащей» природы.
Перформанс теории — как и многие другие приговские перформансы — основан на осознанном и подчеркнутом переключении позиций: теоретика, остраненно рационализирующего культурные процессы, и автора, театрально разыгрывающего себя и свое место в культуре на (квази)научном языке.
Перформатизм
Несмотря на то что приговские идеи претерпевали известную эволюцию (о которой пока можно говорить достаточно гипотетически, поскольку многие его тексты не датированы), эта эволюция была непротиворечивой. Новый слой идей «надстраивался» над предыдущим, не отрицая, а наращивая предшествующую рефлексию.
С самого начала Пригов — и в этом Пивоваров прав — выступал как теоретик концептуализма. Можно обсуждать, насколько его творчество в целом было шире концептуализма, но очевидно, что с конца 1970-х до конца 1990-х Пригов декларировал взгляды, которые считал именно концептуалистскими, и лишь после этого положение несколько изменилось. В целом в развитии теоретических взглядов Пригова можно довольно отчетливо увидеть три слоя, или этапа.
1) Первый — это идеи, высказанные в самых ранних известных нам манифестах Пригова и сформировавшиеся в конце 1970-х — начале 1980-х гг. В фокусе его внимания был «московский романтический концептуализм» как особая форма рефлексии советского историко-психологического опыта и новый, актуальный тип эстетической реакции на «современность»:
«Мне сдается, что в наше время происходит, если уже не произошел <���…> перелом в художническом и культурном сознании. <���…> Концептуализм <���…> берет готовые стилевые конструкции, пользуя их как знаки языка, определяя их границы и возможности, их совмещения и совместимости (это про меня)» [112].
2) Статьи, эссе, «предуведомления», лекции, интервью начала и середины 1990-х. В них Пригов предстает как едва ли не единственный автор из числа «классических» русских концептуалистов, готовый последовательно обсуждать, как работает концептуалистский метод на материале постсоветского сознания, в условиях кризиса идеократического общества, глобализации и появления новых для постсоветского контекста эстетических языков: феминизма, гей-культуры, новой телесности и пр. «Соратники» Пригова по концептуализму времен «бури и натиска» — Илья Кабаков и Борис Гройс — к этому времени стремятся так или иначе обозначить свой выход за пределы концептуалистской парадигмы или, по крайней мере, привычной для концептуализма проблематики. Пригов сохраняет верность тому и другому, но само слово «концептуализм» употребляет все реже. Важную роль на втором этапе развития Пригова сыграла скрытая рефлексия постконцептуалистских идей в визуальном искусстве и литературе, все более ясно определявших эстетический ландшафт 1990-х [113].
3) Третий этап — конец 1990-х и 2000-е гг. В это время Пригов, последовательно развивая собственные идеи, уже явно «перерастает» проблематику «классического» концептуализма и все больше обращается к идеям «новой антропологии», к мультимедийной эстетике и — на новом по сравнению с эпохой 1990-х уровне — к рефлексии «высокого» европейского модернизма.
Противоречий между этими слоями нет, поскольку все они структурированы центральной для Пригова художественной категорией, для которой, как ни странно, у него нет общего имени. Мы назовем ее перформатизмом, хотя Пригов этого слова и не употребляет, предпочитая говорить о поведенческом уровне, операционности, персонажности, имиджах и т. п. Вероятно, дело в том, что для него перформанс — это лишь частный случай более широкого принципа, о котором идет речь. (Он четко различает хэппенинг, акцию, перформанс и проект — но именно проект, т. е. мегаперформанс, вбирающий в себя все формы операционной эстетики и в предельном случае развивающийся в течение всей жизни автора [114], представляется наиболее адекватным определением главного жанра его собственной деятельности.)
Пригов-режиссер выступает и как «драматург», и даже как «сценограф» собственного творчества. Самым ярким проявлением этой театральности письма является приговская категория «назначающего жеста»:
«Чем отличается язык художественного произведения, вернее, сам художественный текст от любого другого — да ничем. Исключительно жестом назначения. То есть помещением в определенный контекст и считыванием его соответствующей культурной оптикой… Автор в этом случае вычитывается не на языковом, а на манипулятивно-режиссерском уровне, где языки предстают героями его драматургии» («Взять языка») [115].
Однако перформатизм не сводится лишь к театрализации сцены письма, поскольку для Пригова и само письмо является не единственной сферой деятельности, а лишь одним из элементов художественной самореализации через жест, имидж или поведенческую стратегию. Он не устает повторять, что современная культура характеризуется «преодолением текстового уровня идентификации и реализации художника и перенесением их на уровень жестово-поведенческий и проективно-стратегический» («Культо-мульти-глобализм» [116]). По мысли Пригова, главное в современной культуре — не что, а кто создал то или иное произведение: именно «кто» определяет модальность читательского отношения к высказыванию. Но само это «кто», то есть «я» художника, существует только в режиме постоянного разыгрывания собственного статуса. Пригов говорит об «акцентированно-знаковом» поведении художника, которое включает в себя и тексты, но не ограничивается ими, и, более того, диктует значение и понимание этих текстов: «Только из имиджа и поведения самого художника, в пределах его большого проекта, можно идентифицировать субстанциональную сущность данного произведения», — пишет Пригов в статье «Скажи мне, как ты различаешь своих друзей, и я скажу, кто ты» (2000) [117]и добавляет: «Текст стал частным случаем более общего художественного поведения и стратегии. Этот способ объявления в зоне искусства имеет нематериальный характер — в некой, скажем так, виртуальной зоне возникает образ-имидж художника».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: