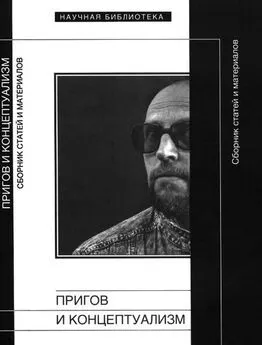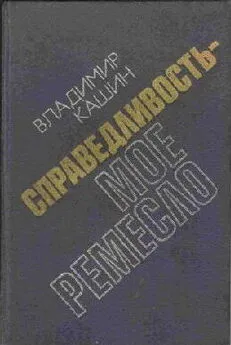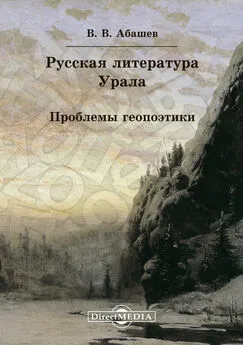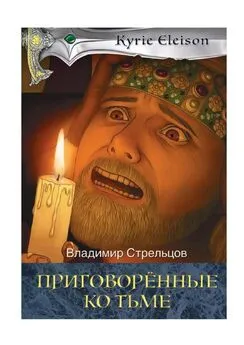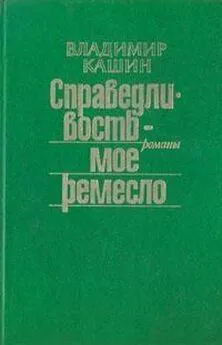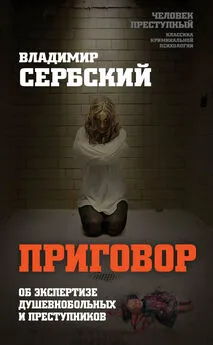Владимир Абашев - Пригов и концептуализм
- Название:Пригов и концептуализм
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0217-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Абашев - Пригов и концептуализм краткое содержание
Пригов и концептуализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Особой интерпретации требует, по-моему, также факт «утроения» визуального образа автора в «подписи», указывающего на движение, что я осмеливаюсь — помимо всего прочего — сопоставлять с умножением, удвоением-раздвоением образа автора в стихотворных текстах Вагинова, на которое обратил внимание Д. Сегал [165]. (Вагинова ДАП хорошо знал и ценил, во всяком случае любил говорить о Вагинове, Введенском, почти никогда — о Хармсе. Забегая вперед, к финалу сообщения, хотелось бы также указать на другую аналогию с Вагиновым: подобно тому как Вагинов основные коллизии своей поэзии обобщил позднее в романе «Труды и дни Свистонова», так и многие исходные мотивы ранней поэзии ДАПа обобщились позднее в его романах.)
Что же касается рассмотренной нами странички из блокнота, то она, будучи мысленно помещенной в контекст более или менее подобных ей, ведет к первым выводам.
Во-первых, напрашивается вывод о тесной связанности и взаимопереводимости словесных и визуально-изобразительных образов в творчестве ДАПа, в данном случае — образа автора, причем очевидно, что рисунок (в отличие от словесного текста с его требованием хотя бы отчасти придерживаться языковых норм) обеспечивает гораздо больший простор для отклонений от кодифицированных требований узуса.
Во-вторых, уже этот простой текст говорит об устойчивости в творчестве ДАПа философски (эпистемологически — если пользоваться его терминологией) акцентируемого вопроса о претензии человека на первое место в универсуме, и — кажется — именно потому мир рисуется у ДАПа как раздвинутый «во все концы света», а авторское Я — как некое возражение против слишком уж гордых притязаний человека на исключительность в ряду населяющих землю существ, да и вообще — творений космоса.
В-третьих, это — роль взгляда-глаза(здесь вверх,затем будет и вниз, а под конец — в «Ренате и Драконе» — роль взгляда будет представлена как проверка реальной значимости господства антропного принципа).
В-четвертых, напластования уровней памяти и воспоминания как актуализация переживания и рассказа о нем, благодаря чему нарратив в стихотворении проявляется как элемент травелога.
II
Продолжая эту тему расширения горизонтов образа автора в направлении выхода за установленные традицией пределы антропологии, прежде всего с помощью перехода от вербального оформления текста к визуальному (как менее кодифицируемому), я хотела бы напомнить о концовке другого стихотворения, которое начинается характерной для ДАПа бытовой сценой:
Килограмм салата рыбного
В кулинарьи приобрел…
Сам немножечко поел
Сына единоутробного
Этим делом покормил… —
а завершается серьезнейшим философским выводом:
И уселись у окошка
Возле самого стекла
Словно две мужские кошки,
Чтобы жизнь внизу текла [166].
Я не знаю, существует ли оформленное средствами визуальных искусств приговское изображение этих замечательных «двух мужских кошек», но с точки зрения моей темы важно обратить внимание на то, что автору пришлось — именно для того, чтобы точно передать мысль о специфичности ситуации, — нарушить языковые нормы и заняться словотворчеством, сотворив тем самым «кошачьих андрогинов» («мужские кошки»), наделенных к тому же сверхъестественной творческой властью: это их взглядна мир устремлен вниз,«чтобы жизнь внизу текла», другими словами — чтобы антропный принцип преобразовался в универсально животворящий принцип.
III
Отсюда нас ведет вполне прямой путь к анализу приговских Монстров, из которых я выбрала «Автопортрет» (1997), где автор представлен (как и многие другие носители творческой энергии этой серии) в деантропизированном виде, точнее — в виде усложненных и монстрообразующих комбинаций множества элементов. Хотелось бы напомнить, что в латинском языке monstrum означало ‘предзнаменование’ ( monstra ac portenta — Цицерон), ‘чудо’, ‘диво’ (Катулл, Вергилий и др.) и только в сочетании с атрибутом это слово приобретало современные значения: monstrum horrendum — ‘чудовище’ (Вергилий), monstrum mulieris — ‘урод’ (Плавт) [167].
В приговской монстрогалерее симптоматично уже само изображение конгломерата элементов: характерно разъятие образов на составляющие их единицы, собирание из них новых образов по принципу «произвольного разрастания», описанному у Эмпедокла в качестве «ошибки природы», а у Дж. Бруно — как вариационность проявлений универсального трансформизма, благодаря чему в зависимости от условий и направления комбинаторики может возникнуть все что угодно, поскольку строительные потенциалы хаоса безграничны [168]. Согласно комментарию Карсавина к идее Бруно о парадигмах самоорганизующихся систем и перегруппировке их составных частей, монстр представляет собой «акцидентальное стечение элементов (potentia compositionis et etherogeneitatis). Эта потенция актуализируется в бесконечном ряде конкретных индивидуальных сложений» [169]. Что же касается суждений нашего времени — биогенетика уже экспериментально различает варианты и виды разрастания «эмбриональных стволовых клеток».
В крайне разнообразной по содержанию галерее монстров ДАПа, которую он строил, по собственному признанию, чтобы создать критическую массу, способную противостоять тому, что модно, можно выявить повторяющиеся приемы организации образов: каждый элемент изображения представляет собой эмблему или метафору какого-то из качеств изображаемого «лица», причем эти элементы комбинаторно сочетаются или подаются «композиторно», во взаимоналожении. По наблюдению Дж. Ди Пьетрантонио, организатора выставки ДАПа в Лекко в 1997 г., зритель призван расшифровывать эти композиции, опираясь на «внутренние цитаты» словно на геральдические знаки и символы, которые с неизбежностью прочитываются по-разному [170], а это — добавим — позволяет изображению стать зеркалом, выявляющим пределы возможностей реципиента. Другими словами: созданный творцом монструозный образ именно благодаря своей анормативности прочитывает и вскрывает качества воспринимающего его сознания, вынося на поверхность и демонстрируя фобии этого сознания по отношению к непривычному, как и управляющие им тривиалии (закрепившиеся в нем «общие места»), в конечном итоге — степень несвободы сознания реципиента. Такое — не устрашающее, а игровое и эпистемологически (в приговском смысле этого термина) провоцирующее — структурирование монстров в галерее ДАПа, в сущности, противостоит ныне вошедшим в моду монстрологиям, восходящим к средневековым бестиариям и ориентированным на поддерживаемое идеей бинарной оппозиции переживание «устрашающе-чужого», анализируемое в юнго-лакано-кристевообразном ключе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: