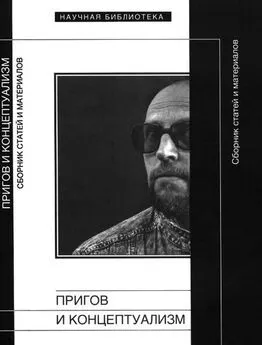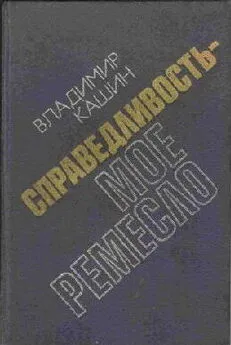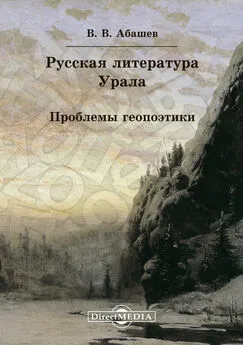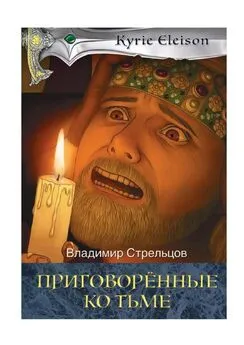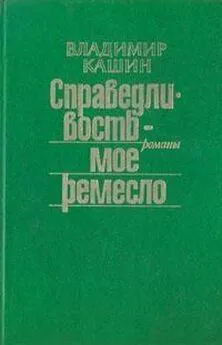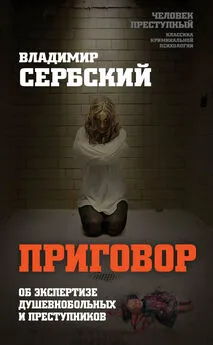Владимир Абашев - Пригов и концептуализм
- Название:Пригов и концептуализм
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0217-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Абашев - Пригов и концептуализм краткое содержание
Пригов и концептуализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В 1920-х годах газета уже не оставляет выбора, никакого или / или.«Правда» становится главной газетой, а имя ее — синонимом Истины. В коллаже И. Гурвича «1918», созданном в 1920-х, газета «Правда» вклеена в качестве идеологического артефакта, призывающего рабочих, солдат и крестьян: «Да здравствует революционное…»и обвиняющего мировую буржуазию: «Пайка голодного осьмушка / Сушила груди матерям, / А из Европы по морям / Ввозили варварские пушки!».К 50-летию Великой Октябрьской революции в 1967 году С. Юнович сделал эскиз декорации для спектакля по книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», который так и не был осуществлен. Газета — это шум времени, это романтический рев революции, опять призывающий: «К гражданам России. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян».
Газета — это не только славословие власти, моментально превращающееся в мусор, но и обои. Помню, как поразила меня в детстве биография самой известной женщины-математика Софьи Ковалевской, которая изучила интегральные уравнения в возрасте четырех лет, потому что стены ее детской были заклеены газетами. Почему газетами оклеили часть генеральской квартиры в девятнадцатом веке, такой вопрос у меня не возник, потому что это казалось естественным на фоне бедного советского быта.
Газета оказалась долговечнее власти, словословие пережило славословие.
В 1981–85 годах Олег Васильев сделал свои «Подмены» на газетах. В 1991 году в серии литографий по рассказу Чехова «Дом с мезонином» он как бы разделил лист на два слоя — на газету и на фотографию, соединив вместе два несводимых изображения — общественное и личное.
Кто бы спорил — газета удобный материал, который всегда находится под рукой. Газета может быть частью посткубистического натюрморта, как в коллажах Геннадия Зубкова, или читаться как знак репрессивной тоталитарной идеологии, как у Оскара Рабина. Газета — это ежедневный шум бытия, фон нашей жизни, неизбежный, как смена времен года.
Для Вас газета — это снег. Не «прошлогодний» никому не нужный, а снег, выпавший из более глубоких слоев памяти, из детства, классической литературы, метели. Это не грязно-серый городской, испачканный типографской краской, а мерцающий, легкий, плавно падающий вниз снег.
Как Вы описали в Азбуке, посвященной инсталляции, этот снегопад:
«И, конечно, газеты! газеты, засыпающие все вокруг наподобие русского мерцающего, светящегося, нематериального, ласкового и бесплотного снега, мягкими пластичными наплывами покрывающего все горизонтальные поверхности, ссыпающегося со стен, потолка, неизвестно откуда! бескрайнее, бесконечное, бессловесное, бесполое! только изредка где-то там вдали-вдали мелькнет огонек проносящегося мимо манящего неведомого селенья, да зазвучит отдаленный колокольчик, как память о всем ушедшем, милом, детском, невозвратном и невозвратимом, да спутается это все пронзительным и леденящим посвистом вьюги».
Вы называли газеты и инсталляции хрупкими и кратко живущими. Вы говорили еще «хрупенькие» и «кратко-живучие». Они напоминали Вам засушенных бабочек. Не потому ли, что и то и другое временно, и не только по причине недолговечности материала, а потому, что и газета и инсталляция связаны со временем или с перформативностью, с тем, что прожито, пережито, отмучилось и осталось лишь в документации, в форме «мощей святых от искусства», по Вашим словам.
Не всегда эти мощи сохраняются в храмах искусства. В 1994 году Вы сделали в Русском музее инсталляцию «Ленинградский буддизм». В этой инсталляции газет, правда, не было. Круглый черный стол, висящий в воздухе, коленопреклоненная фигура перед ним и бокал — вот такой он, «Ленинградский буддизм». Стол, оставшийся от Вашей инсталляции, пришлось выкинуть, бокал удалось отмыть. Я всегда хотела спросить, не чашей ли Грааля были Ваши бокалы, реальные и фантомные, всегда наполненные красной краской. Правда, чаша Грааля из Валенсийского собора оказалась совсем другой, не прозрачной и не красной, а сияющей, излучающей мягкий свет, за счет то ли золотого обрамления, то ли особого освещения, то ли преломления лучей в стеклянной нише, куда она помещена.
Вы называли хрупкость газет трагической, потому что то, что является объектом желания (на какой исторической остановке остались очереди в советские киоски «Союзпечати» за свежей прессой), через минуту беспощадно выбрасывается. Вы ведь подхватили газету, можно сказать, «на лету», тогда, когда она еще была частью тотального идеологического языка, самого что ни на есть повседневного, не бросающегося в глаза, как лозунги на праздниках, но от этого еще более всепроникающего (где все эти кораблики и треуголки, так мастерски свернутые из газеты на пляже). Вы не бросили ее и тогда, когда эта тотальность переродилась из тоталитарной в массмедийную. Мы смотрим на газету. Газета смотрит на нас. На газете появляется глаз. Помните, как Вы описывали этот глаз и взгляд в лекции по поводу инсталляции в Третьяковской галерее «Видение Каспару Давиду Фридриху русского Тибета» (2004):
«Зритель, пришедший поглазеть на подобный пейзаж, вдруг обнаруживает, что сам является предметом пристального наблюдения. Кто смотрит на него? Фантом? Глаз одушевленной природы? Высшего Существа? Он сам ли, трансцендированный, удаленный, отделившийся от себя, взирает на собственный мелкий, оставленный и почти уже чуждый ему телесный организм? И такое бывает».
А может быть, газета для Вас — это икона, в сакральное пространство которой невозможно проникнуть. Флоренский говорил о крепости доски и непроницаемости темперы в иконе, об обратной перспективе, не позволяющей молящемуся перейти из этого мира в тот, попасть из профанного пространства в сакральное. Газета — это стена текста. Газета — это стена плача, которая осталась от разрушенного храма текста. Ровная сероватая поверхность испещрена знаками, которые умрут раньше, чем их прочтут. А кто будет читать наши жалкие записочки, посланные в божественную редакцию? Вы называли газету метафорой человека. Потому что у человека, гремящего костями и обросшего плотью, есть душа, а газета, плоть и кости которой моментально превращаются в мусор, может призывать к революциям, восстаниям, переменам. Когда же это было, в 1917, 1988, 1989, 1991, 1993, когда казалось, что у газеты появилась душа.
Рисовать на газетах — это не палимпсест египетского писца, который тщательно соскабливает с дорогого пергамента предыдущую запись, чтобы оставить новую. Рисовать на газетах — это вам не тайное симптоматическое письмо, вкрапленное молоком между строк. Так Ленин в рассказах Зощенко обманывал бдительных жандармов, слепив из хлебного мякиша чернильницу и налив в нее молоко, чтобы вписать между строк в книгах. Сколько пришлось съесть чернильниц с молоком Владимиру Ильичу, пока жандарм поворачивал ключ, увидев, что Ленин пишет в камере. А сколько хлебного мякиша и молока извели советские дети, не говоря уже об испорченных книгах теми, кто пытался повторить этот подвиг. Рисовать на газетах — это не то, что писать между строк в бедных послевоенных самодельных тетрадках. Нет уж, извините, рисовать на газетах, как Вы это делали, тщательно заштриховывая поверхность текста, — это жест иконоборчества и одновременно иконопочитания. Если бы знали победившие в спорах VII Вселенского собора сторонники иконопочитания, что в XX веке культуру будут обзывать иконократической. Такое вот слово для новой визуальной империи придумала Сьюзан Бак-Морс.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: