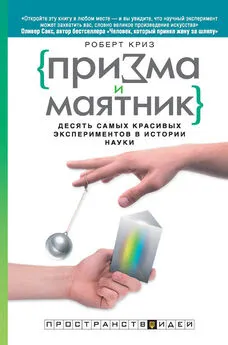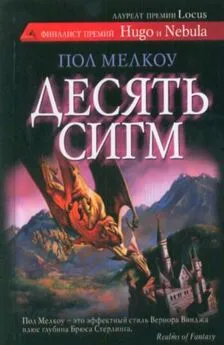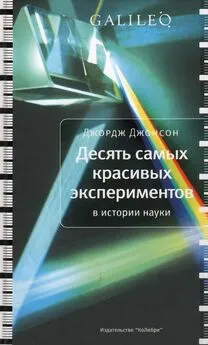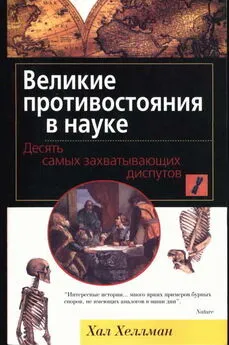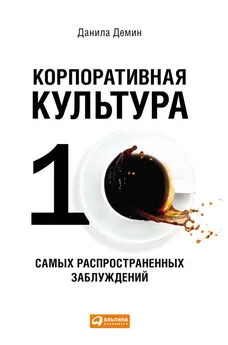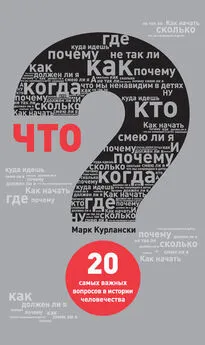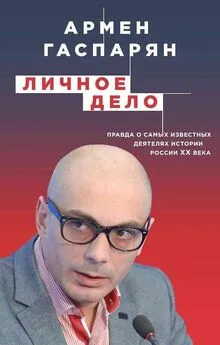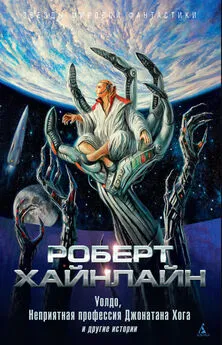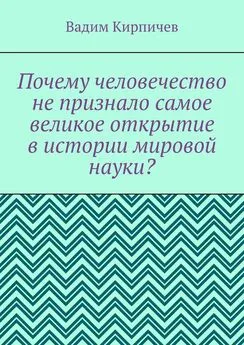Роберт Криз - Призма и маятник. Десять самых красивых экспериментов в истории науки
- Название:Призма и маятник. Десять самых красивых экспериментов в истории науки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аст
- Год:2014
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роберт Криз - Призма и маятник. Десять самых красивых экспериментов в истории науки краткое содержание
Призма и маятник. Десять самых красивых экспериментов в истории науки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Короче говоря, баллада служит еще одним примером пропасти, отделяющей естественные науки от массовой культуры. В кино, к примеру, наука предстает по большей части лишь как предлог для чего-то еще – погони, детективной истории или конфликта добра со злом, сама же наука отодвигается на задний план. Персонажи-ученые, как правило, представлены довольно ограниченным набором довольно поверхностных стереотипных ролей: умный, но злобный негодяй или рассеянный чудак, очень хорошо разбирающийся в своей науке, но совершенно не приспособленный к жизни и неспособный к нормальному человеческому общению. В таких фильмах, как «Инопланетянин» и «Всплеск», холодные и бесчувственные ученые едва не становятся виновниками гибели беззащитных героев.
Подход искусства и массовой культуры к науке и научной проблематике чрезвычайно важен, ведь популярное искусство – это важнейший форум, на котором общество формулирует и обсуждает свои главнейшие устремления и опасения. Неспособность искусства и массовой культуры адекватно изобразить научные проблемы вызывает определенную тревогу, учитывая, насколько глубоко и прочно наука проникла в современную жизнь. Постоянно воспроизводимые стереотипы науки как холодной и чуждой простому человеку заставляют воспринимать ее как враждебную и потенциально опасную. Конечно же, подобный подход исключает любой поиск красоты в науке, так как мешает пониманию того, насколько тесно наука связана со всем красивым и чудесным в нашем мире.
Даже у тех людей искусства, которые берутся за научную тематику с самыми благими намерениями, изображение науки в художественном произведении вызывает значительные трудности. Если вы считаете, что восприятие красоты в научном эксперименте требует особой подготовки, обратите внимание на некоторые произведения искусства, вдохновленные наукой. Много примеров подобных произведений можно было найти в 2003 году на выставках, посвященных пятидесятой годовщине открытия структуры ДНК. Они спровоцировали обозревателя The New York Times Сару Боксер на колкость: «Подобно самой ДНК, искусство, ей посвященное, также требует расшифровки». Воспринимать произведения, представленные в некоторых галереях, писала Боксер, это то же самое, что прослушивать музыкальные произведения в сопровождении голоса, постоянно шепчущего вам на ухо, что означает только что исполненная часть. «Если вы хотите понять связи ДНК, – продолжает Боксер, – вам следует очень многое прочесть» 76.
Театр – великолепное место для интеграции науки в искусство, если принять во внимание, насколько сложные человеческие коллизии он способен изображать. Но даже на сцене историческая и научная истины часто искажаются, чтобы сделать ситуацию более «правдоподобной» или привлекательной для зрителя. В качестве примера можно привести пьесу немецкого драматурга Хайнара Киппхардта «Дело Роберта Оппенгеймера» (1964). Пьеса основана на стенограммах знаменитых «оппенгеймеровских слушаний» 1954 года, в ходе которых руководитель Манхэттенского проекта пытался вернуть себе право работы с секретными материалами. Оппенгеймер был лишен этого права, поскольку нажил себе много врагов активным сопротивлением планам создания водородной бомбы, а также из-за того, что когда-то исповедовал левые взгляды. Кипхардт зачем-то выдумал заключительную речь Оппенгеймера и внес другие коррективы, против которых решительно возражал сам Оппенгеймер (в дальнейшем ученый совместно с одним французским режиссером работал над «исправлением» пьесы Кипхардта, однако исторически точный вариант оказался совершенно безжизненным).
Среди тех драматургов, которые успешно эксплуатируют в своих произведениях научную терминологию, образы и идеи и при этом достигают нужного драматического эффекта, можно назвать Тома Стоппарда с его пьесами «Хэпгуд» и «Аркадия». Некоторые ученые тоже эффективно используют театр для популяризации своих научных концепций в драматической форме: к примеру, один из изобретателей противозачаточной пилюли Карл Джерасси написал пьесы «Непорочное заблуждение» и (в соавторстве с химиком Роальдом Хофманом) «Кислород».
Одна из немногих театральных пьес, посвященных научной тематике, – «Копенгаген» Майкла Фрейна, главные герои которой – ученые Вернер Гейзенберг и Нильс Бор, а также жена последнего Маргарет. В действие вовлекается и часть зрителей: они сидят на специальных местах, стилизованных под скамьи трибунала, лицом к зрительному залу. Это новшество задумано, чтобы подчеркнуть, что за каждым наблюдателем также ведется наблюдение и что ни один наблюдатель не может наблюдать самого себя – театральный эквивалент принципа неопределенности. Мне лично кажется, что это не самый лучший способ подчеркнуть оригинальность пьесы, так как отделенность театрального действия от публики – принцип столь же старый, как и сам театр.
Однако самой важной особенностью пьесы, которая и делает сочетание науки и искусства весьма органичным, является роль Маргарет. Она, словно хор в античной трагедии, как бы выражает наш взгляд на происходящие события. Но она не просто наблюдатель, заинтересованный и симпатизирующий неспециалист, требующий, чтобы для него сложную научную терминологию перевели на простой человеческий язык. Маргарет непосредственно вовлечена во все происходящее в пьесе и порой становится виновницей некоторых событий. Известно, что Нильс Бор писал с огромным трудом, многие были уверены, что он страдает дислексией, и бо́льшая часть его рукописей и писем подготовлена с помощью Маргарет. Она в каком-то смысле становится соучастником происходящего, хотя у нее нет иллюзий относительно того, что вещи, по поводу которых она задает вопросы, чрезвычайно далеки от нее.
Роль Маргарет служит нам напоминанием о том, насколько прочно наука вошла в нашу жизнь. Некоторые считают науку некоей гигантской замкнутой корпорацией, однако на самом деле наука настолько тесно связана со всем нашим миром, с нашим самовосприятием и нашим взглядом на Вселенную, что от нее практически невозможно дистанцироваться. Науку лучше сравнить не с корпорацией, а с некоей коммерческой системой, любые изменения в которой вызывают непредсказуемые последствия в человеческом обществе. Тесная и неразделимая взаимосвязь науки, человеческого общества и нашего мировосприятия предполагает, что «Копенгаген» не должен остаться исключением и что множество пьес на подобную тему могут и должны быть написаны. Это послужило бы еще одним подтверждением того, что наука может быть органично интегрирована в искусство и стать еще одним из источников прекрасного.
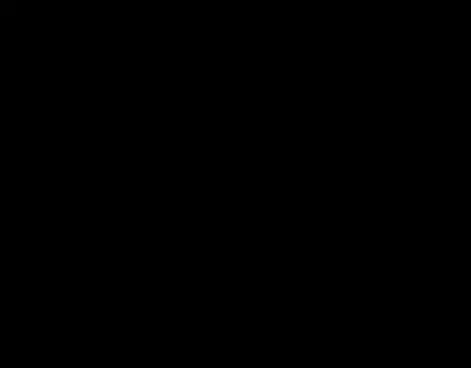
Интервал:
Закладка: