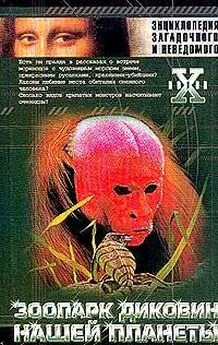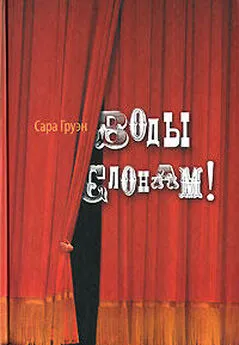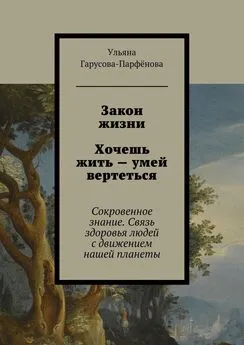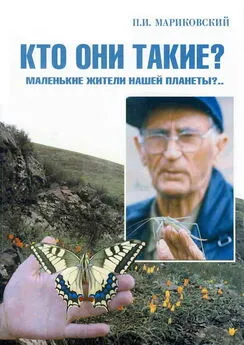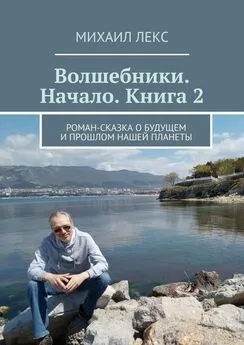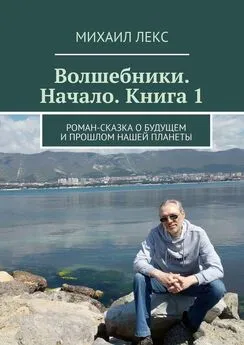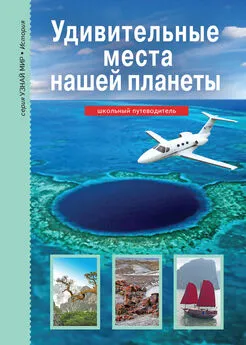Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты
- Название:Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785001394938
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты краткое содержание
Рассказывая о ее становлении, Сара Драй обращается к историям этих людей – историям рискованных приключений, бунтарства, захватывающих открытий, сделанных в горных экспедициях, в путешествиях к тропическим островам, во время полетов в сердце урагана. Благодаря этим первопроходцам человечество сумело раскрыть тайны Земли и понять, как устроена наша планета, как мы повлияли и продолжаем влиять на нее.
Понимание этого особенно важно для нас сегодня, когда мы стоим на пороге климатического кризиса, и нам необходимо предотвратить наихудшие его последствия.
Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В океане точность измерений – вопрос времени и пространства. Главная трудность состоит в том, чтобы одновременно вести наблюдения в нескольких разных местах. Такой вид наблюдений, называемый синоптическим [278] От греч. synoptikos – «обозревающий все вместе». – Прим. пер.
, был впервые использован Робертом Фицроем в 1850-х гг., когда он связал многочисленных метеонаблюдателей с помощью телеграфной сети. Прошло около 120 лет, и океанографы наконец-то сумели сделать то же самое. Но их задача была намного сложнее, и не только потому, что океан – непредсказуемая и безжалостная стихия, но и потому, что вода намного плотнее воздуха и в результате в океане турбулентные вихри сохраняются намного дольше, чем в атмосфере (продолжительность их существования исчисляется неделями и даже месяцами, а не днями), а их размеры намного – примерно в десять раз – меньше.
Итак, Стоммел видел новую задачу в том, чтобы понять, как эти вихри вписываются в крупномасштабную структуру океана. «Нас не интересует описание вихрей как изолированных явлений, – писал он в статье, которая должна была стать призывом к действию для океанографического сообщества. – Но нас интересует та роль, которую они могут играть как движущая сила крупномасштабной циркуляции. Существует ли взаимодействие между вихрями и глобальной океанической циркуляцией, как это происходит в атмосфере?» [279] Henry Stommel, «Varieties of Oceanographic Experience,» Science 139, no. 3555 (15 February 1963): 575.
Каким образом могут быть связаны между собой эти недавно открытые подводные явления и океаническая система? Рассеивают ли эти вихри энергию из системы, или, вопреки логике, увеличивают ее, или же делают то и другое? Стоммел наглядно показал, что океан поддается простым физическим объяснениям. Ученый дал новой зарождающейся дисциплине, динамической океанологии, первые инструменты, чтобы начать рисовать новый портрет океана. И он настаивал, что для того, чтобы познать океан, его необходимо наблюдать – снова и снова, терпеливо и настойчиво.
В предшествующие 20 лет представления ученых об океане и атмосфере разошлись радикально. Благодаря вездесущим радиозондам, а также работам Джоан Симпсон и других атмосфера превратилась в турбулентную и чрезвычайно изменчивую среду. При этом теоретический океан оставался удивительно спокойным местом: его «устойчивое плавное течение» резко контрастировало с атмосферным – «в высшей степени нелинейным гидродинамическим движением с огромными вихрями [циклонами], играющими исключительно важную, доминирующую роль» [280] Из служебной записки Генри Стоммела от 11 августа 1969 г.; Henry Stommel, Correspondence 1958, 1969–1970, in MidOcean Dynamics Experiment, AC 42 ox 2, Folder 92, MIT Archives.
. По мнению Стоммела, пришло время дать окончательный и однозначный ответ на фундаментальный вопрос: является ли океан таким же нелинейным в своем движении, как атмосфера, или нет? Для этого нужно было повторить эксперимент с пастернаком, который Стоммел и Ричардсон провели на шотландском озере, только в гораздо большем масштабе. «Мы ожидаем, что будет установлено: вихри играют доминирующую роль в динамике океанической циркуляции, – предсказывал Стоммел, – и это заставит нас изменить всю теоретическую концепцию океанических течений, разработанную за последние 20 лет» [281] Из служебной записки Стоммела от 11 августа 1969 г.
. Это было рискованное начинание, которое угрожало опровергнуть все те теории, которые многие годы разрабатывались океанографами, но «если эти старые теории должны быть изменены или отброшены вовсе, мы хотим быть теми, кто сделает это» [282] Stommel, Collected Works , I-64.
.
Чтобы получить ответ на ключевой вопрос, не следовало полагаться на несфокусированное исследование с пассивным сбором данных. «Нам не нужна ситуация, – объяснял Стоммел, – когда кто угодно может расставить точки на карте мира и назвать это планом будущих измерений» [283] Henry Stommel, «Future Prospects for Physical Oceanography,» Science 168 (26 June 1970): 1535.
. Чтобы действительно понять океан, требовалась серия экспериментов по проверке четко сформулированных гипотез и протоколы оценки их результатов. Новый проект получил название «Эксперимент по изучению динамики открытого океана» (Mid-Ocean Dynamics Experiment, MODE). Каждое слово в этом названии говорило об амбициозной цели проекта: использовать методику физических экспериментов в той области океана, которая прежде не изучалась. Этот проект должен был стать мечом, который безжалостно отсечет наследие старых описательных атласов, даже в 1970-х гг. все еще доминировавших в океанографической науке. А добиться такого результата можно было только с помощью эксперимента – а не просто серии замеров. Эксперименту предстояло ответить на четко сформулированный вопрос: «Существуют ли вихри такого масштаба в глубоководной части океана?» – и сделать это в определенный срок.
Стоммел рассмотрел проблему эксперимента еще в 1963 г. в статье «Разновидности практического знания в океанографии», опубликованной в журнале Science . Делая, казалось бы, парадоксальную ссылку на классическое исследование религии Уильяма Джеймса, Стоммел утверждал, что к каждой океанографической экспедиции следует подходить как к научному эксперименту: «Если мы рассматриваем экспедицию как научный эксперимент, это означает, что она должна давать ответы на конкретные вопросы…» [284] Stommel, «Varieties,» 572.
При этом необходимо принимать во внимание тот широкий диапазон масштабов, в которых происходят океанические явления – «разновидности океанографического опыта». Океан, как становилось все более ясно, был удивительно разнообразен в масштабах времени и пространства. Следовательно, чтобы разработать хорошие эксперименты, которые могли дать четкие результаты, следовало учитывать это разнообразие. Как показали результаты экспедиции на «Эриз», бесполезно было полагаться на статистику и усредненные данные. Чтобы ответить на конкретные вопросы – скажем, объяснить изменение уровня моря в конкретном океаническом бассейне, – требовалось задать эти вопросы с учетом масштаба. Для этого Стоммел включил в статью диаграмму, визуально представлявшую весь диапазон масштабов, в которых происходили энергетические изменения в океане: от гравитационных волн в сотни метров длиной, существовавших всего несколько минут; приливно-отливных колебаний, имевших дневную и месячную периодичность; метеорологических воздействий, происходивших в сходных масштабах, но с гораздо меньшей регулярностью; и до монументальных изменений наподобие ледниковых периодов, охватывавших много тысяч лет и километров. Эта диаграмма была типична для Стоммела – обманчиво простой инструмент упорядочивания сложности. Она представляла собой энергетическую карту океана, и, как призывал исследователь, должна была стать дорожной картой для океанографов, если они действительно хотели постичь происходящее в океане посредством доступных им наблюдений. Задача была невероятно трудна, но Стоммел верил: если вопросу масштаба уделить должное внимание, есть все основания надеяться на то, что в будущем «теория и наблюдение будут наконец-то развиваться вместе, в более тесной взаимосвязи» [285] Более подробно о диаграмме Стоммела см.: Tiffany Vance and Ronald Doel, «Graphical Methods and old War Scientific Practice: The Stommel Diagram's Intriguing Journey from the Physical to the Biological Environmental Sciences,» Historical Studies in the Natural Sciences 40, no. 1 (2010): 1–47. Stommel, «Varieties,» 575.
.
Интервал:
Закладка: