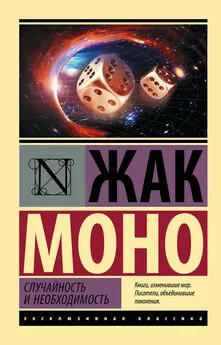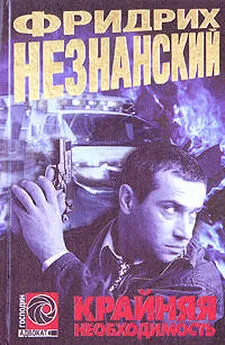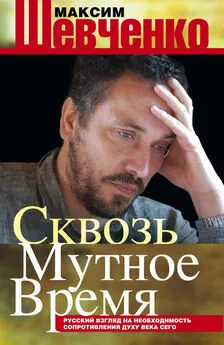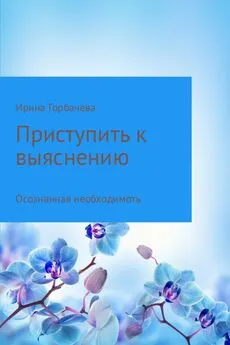Жак Моно - Случайность и необходимость
- Название:Случайность и необходимость
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-17-150233-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жак Моно - Случайность и необходимость краткое содержание
Жак Моно написал множество научных статей и всего одну книгу, которая, однако, сразу же привлекла к себе внимание и стала предметом ярких дискуссий креационистов и дарвинистов.
Одинок ли человек во Вселенной? Как и почему бесчисленные тысячелетия эволюции сделали нас, homo sapiens, такими, какие мы есть? И есть ли смысл вообще в появлении жизни?
Достаточно последовательный в своем дарвинизме, Моно, тем не менее, резко отходит от теории Дарвина во всем, что касается неслучайности передающихся признаков, и представляет эволюцию как своеобразную игру в биологическую рулетку. Какое же место в этой игре отведено человеку, и свободен ли он в своем выборе?
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Случайность и необходимость - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Теперь вообразим, что машина изучает объект другого рода: например, улей, построенный дикими пчелами. Здесь она, очевидно, найдет все признаки, указывающие на искусственное происхождение: простую и повторяющуюся геометрическую структуру сот и составляющих их ячеек. В результате улей будет отнесен в той же категории объектов, что и жилища Барбизона. О чем говорит подобный вывод? Мы знаем, что улей – «искусственный» объект, ибо представляет собой продукт деятельности пчел. Тем не менее у нас есть веские основания полагать, что эта деятельность носит не сознательно-проективный, а автоматический характер. В то же время, как хорошие натуралисты, мы склонны причислять пчел к классу «естественных» существ. Нет ли вопиющего противоречия в том, чтобы считать «искусственным» продукт автоматической деятельности «естественного» существа?
Проведя соответствующее исследование, мы убедимся, что если такое противоречие действительно имеет место, то оно проистекает не из ошибок программирования, а из неоднозначности наших суждений. Изучая обитателей улья – пчел, – машина неизбежно примет их за искусственные, высокотехничные объекты. Самый поверхностный осмотр выявит в пчеле элементы простой симметрии: билатеральной и трансляционной. Более того, изучая одну пчелу за другой, компьютер заметит, что чрезвычайная сложность строения (например, количество и расположение брюшных волосков или жилкование крыльев) воспроизводится с необычайной точностью в каждой особи. Разве это не есть убедительное доказательство того, что пчелы суть продукты преднамеренной, конструктивной и необычайно сложной деятельности? На основании собранной информации машина будет вынуждена сообщить марсианам, что на Земле существует высокоразвитая индустрия, по сравнению с которой их собственная покажется примитивной.
Единственная цель этого маленького экскурса в не столь уж фантастическое будущее состоит в том, чтобы показать, как в действительности сложно определить интуитивно очевидные, но вместе с тем трудноуловимые различия между «естественным» и «искусственным». По всей вероятности, на основе одних только структурных – макроскопических – критериев невозможно прийти к определению искусственного, которое, с одной стороны, охватывало бы все «истинные» артефакты, такие как продукты человеческой деятельности, а с другой – исключало бы естественные объекты вроде кристаллических структур и живых существ, которых мы также относим к природным системам.
Ища причину путаницы – точнее, кажущейся путаницы, – следует задуматься, не возникает ли она из нашего стремления ограничить программу только анализом формы, структуры, геометрии и тем самым лишить понятие искусственного его сущностного содержания. Любой искусственный объект определяется или объясняется в первую очередь функцией, которую он призван выполнять, действием, которого от него ожидает изобретатель. Как ни странно, запрограммировав машину таким образом, чтобы она обращала внимание не только на устройство, но и потенциальную функцию исследуемых объектов, мы получим еще более разочаровывающие результаты.
Предположим, что новая программа позволяет машине анализировать структуру и поведение двух категорий объектов – например, лошадей, скачущих по лугу, и автомобилей, движущихся по шоссе. Анализ приведет машину к выводу, что эти объекты сопоставимы: и лошади, и автомобили обладают встроенной способностью к быстрому перемещению, хотя и по разным поверхностям, что объясняет различия в их внутреннем устройстве. Рассмотрим другой пример: если мы попросим машину сравнить строение и функционирование глаза позвоночного с устройством и работой фотоаппарата, программа не сможет не признать их выраженное сходство. Линзы, диафрагма, затвор, светочувствительные пигменты – несомненно, одни и те же элементы не могут быть встроены в два разных объекта, кроме как с целью реализации одинаковых функций.
Последний из этих примеров – классический пример функциональной адаптации, свойственной живым существам. Я привел его только для того, чтобы подчеркнуть, как необоснованно и бессмысленно было бы отрицать, что естественный орган – глаз – представляет собой материализацию некой «цели» – в данном случае получение изображений. С той же целью, безусловно, создан и фотоаппарат. Отрицать это тем более абсурдно, что цель, «объясняющая» фотоаппарат, не может не быть тождественной цели, которой глаз обязан своим строением. Всякий артефакт есть продукт, созданный живым существом, которое через него выражает одну из фундаментальных характеристик всех живых организмов без исключения: все они представляют собой объекты, наделенные целью или замыслом , которые в свою очередь проявляются в их строении и через их деятельность (например, производство артефактов).
Вместо того чтобы отвергать эту идею (как пытались делать некоторые биологи), необходимо признать, что она принципиально важна для самого определения живых существ. Последние отличаются от всех других структур или систем, присутствующих во вселенной, данным характерным свойством, которое мы будем называть телеономией .
Впрочем, следует иметь в виду, что, хотя это условие и необходимо для определения живых существ, одного его недостаточно, ибо оно не предлагает никаких объективных критериев, позволяющих отличать живые существа от артефактов, возникающих в результате их деятельности.
Мало указать на то, что замысел, породивший артефакт, принадлежит создавшему его животному, а не самому искусственному объекту. Это очевидное понятие слишком субъективно, о чем явно свидетельствует трудность его использования в компьютерной программе: на каком основании машина может решить, что замысел получения изображений – замысел, реализуемый фотоаппаратом, – принадлежит какому-то другому объекту, а не самому фотоаппарату? Исследуя готовую структуру и анализируя ее работу, можно установить план, но не его автора или источник.
Чтобы обнаружить источник, необходима программа, которая будет изучать не только сам объект, но и его происхождение, историю и, для начала, процедуру его создания. Ничто, по крайней мере в принципе, не мешает написать такую программу. Даже при самом грубом исполнении она могла бы обнаружить радикальное различие между живым существом и любым артефактом, каким бы совершенным он ни был. Такая машина не могла бы не заметить, что макроскопическая структура артефакта (будь то соты, бобровая плотина, палеолитический топор или космический корабль) есть не что иное, как результат воздействия сил, внешних по отношению к самому объекту. Будучи завершенной, макроскопическая структура свидетельствует не о внутренних силах сцепления между атомами или молекулами, составляющими ее материал (и обуславливающими только общие свойства плотности, твердости, пластичности и т. д.), но о внешних силах, придавших ей данную конкретную форму.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: