И. Кондаков - Русский масскульт: от барокко к постмодерну. Монография
- Название:Русский масскульт: от барокко к постмодерну. Монография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-98712-883-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И. Кондаков - Русский масскульт: от барокко к постмодерну. Монография краткое содержание
Автор отмечает, что в рамках Просвещения произошло размежевание дворянской культуры на либерально-демократическую и консервативную разновидности, и если первая способствовала массовизации, то вторая – индивидуализации русской культуры. Произошедший в XIX веке кризис классической парадигмы, а вместе с ней – «литературоцентризма» русской культуры привел к становлению постлитературных жанров и стилей, связанных с модернизмом и постмодернизмом, к обновлению содержания и художественных средств как массовой, так и элитарной культуры начала XX века.
Книга предназначена для представителей гуманитарной науки – культурологов, литературоведов, философов, искусствоведов, историков, а также всех, интересующихся историей и теорией отечественной культуры, литературы и искусства, ментальности.
Русский масскульт: от барокко к постмодерну. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Близок типу Фрола Скобеева центральный персонаж «Слова о бражнике». Человек со дна общества, беспутный и грешный, невоздержанный в пьянстве и бродяжничестве, имеющий лишь одну заслугу – с каждой чашей вина он славил Бога, – не только сознает себя достойным райской жизни, но и добивается ее, несмотря на упорное сопротивление всех святых обитателей Рая, в том числе и ближайших апостолов Иисуса Христа. Бражник (порождение города) оказывается обладающим не только деятельной настойчивостью и уверенностью в своей нравственной правоте, но и большой осведомленностью в богословских вопросах, и риторическими способностями, и незаурядным умом мыслителя. Он искусно укоряет всех библейских персонажей, беседующих с ним через запертую дверь Рая, в совершенных ими грехах, пока не убеждает все небесное сообщество в том, что он не только достоин Рая, но и заслуживает того, чтобы занять в нем «лучшее место» – рядом с самим Богом, потеснив апостолов и евангелистов.
Таким образом, оказывается, что простой и далекий от совершенства человек из городских низов не только способен, благодаря своей энергии и убежденности, попасть «на верх общества», как это сделал Фрол Скобеев, но и в самый Рай, преодолев предубеждения не только старшего поколения людей, но и святых и апостолов, – по праву человека, заслуживающего и заслужившего себе место в Раю. Более того, выясняется, что его грехи и беспутства ничтожны по сравнению с проступками и преступлениями бесспорных святых и даже апостолов Христовых, а сам бражник – безгрешнее и святее всей райских завсегдатаев.
Это уже чисто «возрожденческая» аллюзия секуляризованного века на библейские сюжеты, одновременно бесстрашная в переоценке всех ценностей и кощунственная в отрицании всех норм и традиций Древней Руси и утверждении новых, демократических и мирских, составляющих городскую культуру. Литературу кризисного времени захлестывают травестии сакральных жанров и сюжетов; персонажи подобных травестийных произведений подчеркнуто амбивалентны: их святость неотделима от греховности, моление – от покаяния, подвиг – от преступления, воздаяние – от кары и т.д. Все критерии оценки литературы смешались, границы размылись, иерархия ценностей распалась…
В результате такого масштабного кризиса восторжествовала массовая культура, культура «для всех», которая сравняла все уровни, ликвидировала все границы, привела все разновеликие ценности к « одному знаменателю ». При этом средневековая древнерусская культура, одним из условий существования которой была сословная иерархия, перестала существовать, потому что «вертикаль» социокультурных различий рухнула. А массовая культура – в лице московских городских повестей, с ее «ренессансной» «горизонталью», напротив, утвердилась, в силу своей популярности, востребованности разнородным и взбудораженным обществом. Именно массовая культура второй половины XVII века открывала двери Петровским реформам и Новому времени.
В связи с этим стоит еще раз взглянуть на весь путь, пройденный древнерусской культурой за семь веков ее существования, с точки зрения выявившихся закономерностей ее развития.
У акад. Д.С. Лихачева есть обобщающая, глубокая статья, посвященная именно этому вопросу, под названием «Прогрессивные линии развития в истории русской литературы» 109 109 См.: Лихачев Д.С. Культурология: Избранные труды по русской и мировой культуре. С. 73–116.
. По существу в ней идет речь не только о русской литературе и ее истории, но и о русской художественной культуре в целом. Другое дело, что сегодня, в начале XXI века, к идеям «прогресса» в истории, общественном, в том числе и культурном развитии, мы относимся более осторожно, чем раньше. Мы понимаем, что рядом с относительным прогрессом в одной сфере часто наблюдается регресс – в другой; что цикличность развития предполагает частичное возвращение к пройденному, к повторению прошлого на новом уровне, в ином качестве; что в истории, наряду с подъемом и «рывком» вперед, возможен и «откат» назад. В этом смысле выражение «прогрессивные линии развития» сегодня можно было бы, без ущерба для содержания работы, заменить выражением «основные линии развития» или просто «основные тенденции».
Прослеживая основные тенденции развития русской литературы, а вместе с ней и всей русской культуры, Д. Лихачев практически не затрагивает опыт ХХ века. Его наблюдения и обобщения строятся в основном на материале сопоставления Средневековья и Нового времени (причем речь идет больше о XVIII веке, чем о XIX, который больше подразумевается как заключительный этап осмысляемого развития), и основной акцент падает на переходный, поворотный – от Средневековья к Новому времени – XVII век. Понятно, что даже на таком грандиозном по временному охвату культурно-историческом фоне тенденции ХХ века будут смотреться по-иному. Однако для почти тысячелетней русской истории и истории отечественной культуры выявление основных тенденций развития – огромная научная заслуга.
Д. Лихачев отмечает восемь основных тенденций развития русской литературы и искусства, которые располагаются в исторической и логической последовательности:
• постепенное снижение прямолинейной условности;
• возрастание организованности;
• возрастание личностного начала;
• увеличение «сектора свободы»;
• расширение социальной среды;
• рост гуманистического начала;
• расширение мирового опыта;
• расширение и углубление читательским восприятием литературного произведения.
С нашей точки зрения, в этом перечислении недостает еще двух важных позиций:
• рост массового восприятия литературы (культуры);
• расширение «сектора массовой культуры».
Первая из этих двух позиций по смыслу связана с «увеличением “сектора свободы”» и «расширением социальной среды»; вторая – с «возрастанием личностного начала» и «снижением прямолинейной условности». Остальные позиции, перечисленные Д. Лихачевым, прямо или косвенно связаны с обеими позициями, добавленными к его списку. Здесь и «расширение и углубление читательского восприятия», и «расширение мирового опыта», и «возрастание организованности», и «рост гуманистического начала». Все это факторы, так или иначе работающие на массовизацию литературы и культуры, на массовизацию их восприятия и производства.
Важно понимать, что рост персонализации культуры неизбежно порождает и ее массовизацию; выделение индивидуальной, личностной культуры из общего целого с необходимостью ведет к выделению и ее противоположности – массовой культуры. Это означает, что русская культура в XVII веке пережила не только религиозный, но и художественный раскол, приведший к сосуществованию и противоборству индивидуальной и массовой культур.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
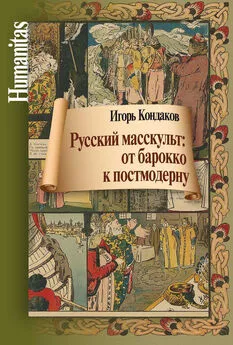


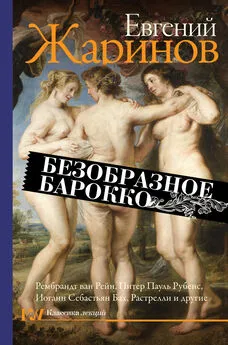
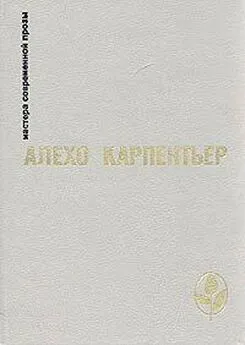
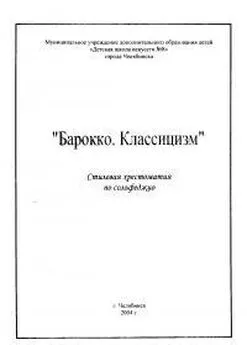
![Владислав Дегтярев - Барокко как связь и разрыв [litres]](/books/1149249/vladislav-degtyarev-barokko-kak-svyaz-i-razryv-lit.webp)


