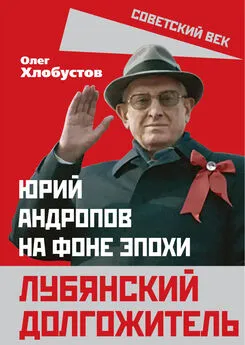Наталья Бонецкая - Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи
- Название:Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Алетейя
- ISBN:978-5-00165-410-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Бонецкая - Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи краткое содержание
Книга может принести немалую пользу в сфере гуманитарного образования, а также обогатить знания о русском Серебряном веке весьма широкой читательской аудитории.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пока мы ограничимся лишь предварительным указанием на этот судьбоносный для Евгении треугольник, намереваясь в дальнейшем основательно проследить за развитием отношений внутри него. Речь идет о ее дружбе с Вяч. Ивановым (с 1905 г.) и Н. Бердяевым (с ним Евгения познакомилась в 1909 г.), которая была осложнена страстной влюбленностью Евгении в Иванова. Перипетии этой влюбленности, вообще детальное осмысление треугольника мы отложим на будущее. В данном же месте нашего исследования, – в связи с крымской тематикой и легендой о Феодоре, – отметим то, что Евгения, как и Феодора, имела дело с другом верным и другом – тайным врагом. Во-вторых же, в судьбе Евгении Бердяев и Иванов как бы знаменовали языческий и христианский полюса ее двойственного мировоззрения: Бердяев указывал ей на Христа, попутно отводя от чуждых соблазнов, – скажем, антропософии; Иванов же тянул в язычество собственного извода – прельщал Дионисом, вовлекал в спиритизм, гадания и хлыстовщину, смущал ее ум собственными планами религиозного реформаторства. – Но могут спросить: при чем же здесь тайная вражда? В сложных отношениях Иванова с Евгенией, ученицей и влюбленной в него женщиной, был один задевающий его амбиции момент: безграничное, казалось бы, его влияние внезапно наталкивалось на ее сопротивление – решимость, вопреки воле друга, отстаивать себя до конца. «Вы не менада», – раздраженно бросил однажды Иванов Евгении; он имел в виду то, что Евгении не было свойственно до конца отказываться от своей воли и разума (мы выше уже упоминали о данном эпизоде осени 1908 г.). Это случилось в ту пору их отношений, когда обоим надлежало открыть все карты, ибо ставились последние точки над i. И вот эта-то независимость, бытийственное самостояние Евгении и были причиной скрытой враждебности к ней Иванова. Манеры змея-искусителя (кстати, отмеченные многими, кто знал его) прекрасно маскировали действительные чувства Иванова к ближнему, но не смогли обмануть сердце любящее. Аделаида, воспринимавшая боль сестры как свою собственную, дала точнейшее определение Иванова в отношении Евгении – «злой друг». Мы имеем в виду ее стихотворение 1916 г., однозначно указывающее на Иванова воспроизведением и его внешнего облика:
Рифма, легкая подруга,
Постучись ко мне в окошко,
Погости со мной немножко,
Чтоб забыть нам злого друга.
Как зеленый глаз сверкнет,
Как щекочет тонкий волос,
Чаровничий шепчет голос,
Лаской душу прожигает
Едче смертного недуга.
Рифма, легкая подруга,
Все припомним, забывая,
Похороним, окликая.
Евгения знала о присутствии в ее судьбе данной триады. Размышляя о своем высшем призвании, она также возводила собственную жизненную ситуацию к объективному образцу. Однако для этой цели она привлекала, естественно, не легенду о судакской царице Феодоре. Сделавшись христианкой, она стала рассматривать в качестве ключа к собственной жизни, как это принято, житие своей святой покровительницы – преподобномученицы Евгении. И вот в сюжете этого древнего жития святую Евгению на ее пути неизменно сопровождают двое друзей – Прот и Гиацинт, которые в конце разделяют и ее мученичество. Анализ Евгенией Герцык жития святой Евгении содержится в ее интереснейшем автобиографическом и одновременно философском сочинении (повести? эссе?) «Мой Рим» (1914–1915). Однако Прот и Гиацинт, безликие в житии, и в интерпретации Евгении Герцык не обретают никаких этических и характерологических примет. Автор «Моего Рима» знает, что Прот и Гиацинт прообразуют Иванова и Бердяева, но она не склонна как-то противопоставлять их роли в ее судьбе. Подобно своей святой покровительнице, она одинаково относится к обоим – как к друзьям, «милым братьям» [72]. Глубокая христианка в середине 1910-х гг., она простила Иванову его соблазны, ложь и измену. Позади остался крымский разгул «злых страстей»; римское настроение пронизано лучами «солнца невидимого». Впоследствии эта настроенность на подвиг определит и судакскую жизнь сестер – когда «волей Бога» у людей будет отнят «насущный хлеб» (А. Герцык. Хлеб; 1922) и наступит совершенно новая для них экзистенциальная ситуация.
Курсистка
Курсы Герье. П. И. Новгородцев – научный руководитель Евгении Герцык
С 1900 по 1904 г. Евгения Герцык учится на историко-философском отделении Высших женских курсов, основанных профессором Московского университета В. И. Герье. Поступив туда в возрасте двадцати двух лет (учебное заведение только что возобновило свою деятельность после перерыва), Евгения мало походила на современных зеленых студентов-первокурсников. Классическое гуманитарное домашнее образование, знание в совершенстве основных европейских языков (Евгения владела немецким, французским, английским и итальянским), глубокий интерес к философии, увенчавшийся переводом серии книг Ницше (ныне подобным делом занимается целый коллектив академического института), – это был багаж знаний, нуждавшийся не столько в пополнении, сколько в систематизации и завершении. Помимо того, за плечами остался путь серьезных мировоззренческих исканий – материализм, эстетизм, наконец – парадоксальным образом под влиянием Ницше – углубление взгляда на мир и пробуждение религиозности. Это была уже повзрослевшая душа – очень свободная и активная, дерзкая в своих вопрошаниях, отчасти даже несколько испорченная ницшеанским нигилизмом: все ставилось под вопрос Евгенией – Бог, добро и зло, красота, общепризнанные идеалы и авторитеты. Была великая жажда истины – но ее едва ли не пересиливал критический, отрицательный настрой. Благодаря курсам Евгения приобщилась к сложившейся в XIX в. традиции русской гуманитарной науки, к вершинам благородного русского духа. Однако сама она была человеком уже другой духовно-исторической формации. Мир уже вступал в эпоху постхристианскую, постидеалистическую и постгуманистическую, и перед тем поколением, к которому принадлежала Евгения, стояла нелегкая задача устоять, когда почва убегает из-под ног, но не возвращаться назад. – Здесь корни ее двойственного состояния в период учебы. С одной стороны, она впервые тогда испытала творческий подъем, который достиг своего пика во время ее работы над «выпускным сочинением» – диссертацией о реальном мире у Канта (1904). Посещение курсов сопровождали глубокие и очень изощренные переживания в связи с дружбой с Софьей Владимировной Герье – дочерью директора Владимира Ивановича Герье; об этих переживаниях мы отчасти узнаем из дневниковых записей Евгении 1903 г., а также из очерка «Вайолет», вошедшего в серию автобиографических эссе «Мой Рим». – С другой же стороны, курсы для Евгении – это скучание на лекциях, сопровождаемое ощущением какой-то едва уловимой духовной фальши в речах профессоров. В среде московской элиты она не находила живых мировоззренческих импульсов, способных по-настоящему утолить жажду души…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: