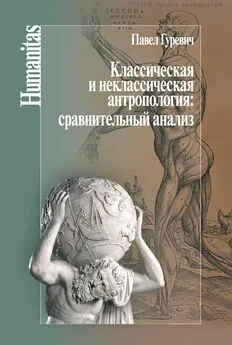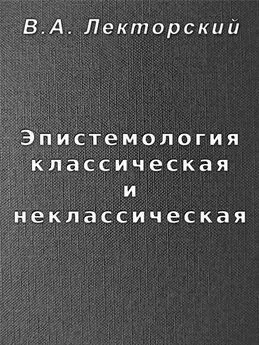Павел Гуревич - Классическая и неклассическая антропология: сравнительный анализ
- Название:Классическая и неклассическая антропология: сравнительный анализ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-98712-839-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Гуревич - Классическая и неклассическая антропология: сравнительный анализ краткое содержание
Монография рассчитана на специалистов и широкий круг читателей.
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Классическая и неклассическая антропология: сравнительный анализ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Представление о том, что человеческую природу можно радикально изменить, складывалось уже в религиозном сознании. Так, в христианстве возникло воззрение, согласно которому в результате нравственных усилий можно создать «нового человека». Облагораживание человека предполагает изживание устойчивых задатков Адамова потомка, присущих ему животности, разрушительных наклонностей, греховности.
Мысль о том, что существует единая человеческая природа, казалась сомнительной еще по одной причине. Когда рождались те или иные социальные доктрины, их творцы доказывали разумность своих проектов, ссылаясь на человеческую природу. Но эта ссылка оправдывала самые неожиданные и различные программы. Например, Платон, Аристотель и большинство мыслителей вплоть до Французской революции, апеллируя к человеческой природе, возвеличивали рабство.
Нацизм и расизм, обосновывая собственные установления, полагали, что прекрасно осведомлены о человеческой натуре, и действовали на основе этого, с их точки зрения, непреложного знания. Консерваторы разных эпох, критикуя радикальные проекты, указывали на тот факт, что человеческая природа не может соотнестись с общественными «мутациями». Наконец, идеологи казарменного социализма, вербуя своих сторонников и разворачивая дальние социальные перспективы, ссылались на то, что такова уж человеческая природа: она, мол, согласуется с их социальными программами.
Вполне понятно, что если различные идеологические течения имеют в виду неадекватно понятую человеческую природу, то можно предположить, что таковая в качестве некой тотальности вообще отсутствует. Данное воззрение укреплялось также тем, что многие ученые выдвигали идею такой личности, которая создает себя, меняет себя, преображает себя. Столь разные философы, как, например, С. Кьеркегор или У. Джеймс, А. Бергсон или П.Тейяр де Шарден, полагали, что человек – творец собственной истории. Иначе говоря, в исторической реальности человек все время – другой…
Такая позиция характерна для тех мыслителей, которые отстаивают тезис об абсолютном приоритете культуры, общественных форм жизни над природными предпосылками человеческого бытия. В частности, среди структуралистов бытует убеждение, что человек есть слепок формирующих его культурных условий. Отсюда вывод: хочешь проникнуть в тайну человека – изучай те или иные структуры самой культуры, ибо индивид отражает их изменчивые формы.
Не только биологическая конституция человека, не только культурная символика наводят на мысль о некой единой человеческой природе. Несомненно, общей чертой служит также высокая гибкость поведения, которая в свою очередь связана с человеческой способностью включаться в символическую коммуникацию. У всех людей есть какой-то язык. Человек повсеместно обнаруживает дар к рефлекторному мышлению. Следовательно, ему присуща возможность предвидеть последствия своего поведения.
Итак, человеческая природа сохраняет свою внутреннюю устойчивость. Противоположное положение, о котором мы говорили («человеческая природа беспредельно мобильна и не фиксирована»), наталкивается на определенные парадоксы. Идея безграничного формообразования человека может привести к далеким и неожиданным следствиям. Представим себе, что человек как существо безграничен и бесконечно подвижен. Он создал некие институты, которые вполне отвечают его благополучию. Дальнейший импульс к пересотворению утрачен. Человек вполне доволен общей жизненной ситуацией.
Не означает ли это, что человек полностью выявил собственный потенциал? Разумеется, нет. В таком случае человек оказался бы заложником или марионеткой определенных жизненных обстоятельств. Именно эти обстоятельства стали бы его лепить. Формообразование человека стало бы прерогативой общества, истории. Внутренняя способность человека к изменениям не получила бы реализации…
Подытожим: человеческая природа как некая данность, безусловно, существует. Мы не в состоянии представить ее конкретную расшифровку, ибо она раскрывает себя в различных культурных и социальных феноменах. Человеческая натура, следовательно, не сводится к перечню каких-то устоявшихся признаков. Наконец, эта природа не является неизменной и косной. Сохраняя себя в качестве определенной целостности, она тем не менее подвержена изменениям.
Но где же все-таки искать ответ на вопрос, какова человеческая природа? Философы обычно указывали на какой-нибудь доминирующий признак, который заведомо характеризует человеческую стать: разум, социальность, общение, способность к труду. То, что человек необычен для природного царства, казалось, ни у кого не вызывает сомнений. Вот почему его оценивали как особую форму жизни, которая похожа на другие формы жизни, но вместе с тем принципиально отличается от них.
Некоторые мыслители пытались превзойти сложившуюся традицию в трактовке человеческой природы. Они говорили о человеке как об особо организованном сознании, специфическом витке эволюции Вселенной. Однако на поверку оказалось, что все эти по видимости разнородные подходы все-таки не выходят за рамки понимания человека как особой формы жизни. Ведь и особым образом структурированное сознание не существует без живой плоти.
Э. Фромм предложил принципиально иной подход к характеристике человека. Оценивая его как особый род сущего, американский исследователь подчеркивал: не стоит приискивать все новые и новые признаки. Взглянем на ситуацию с принципиально новых позиций. Определим человека экзистенциально, т. е. через способ его существования. Это, несомненно, впечатляющее открытие философии XX столетия. Сам Э. Фромм подчеркивал, что прилагательное «экзистенциальный» появилось у него независимо от философии человеческого бытия, в ходе развертывания вполне самостоятельного подхода к феномену человека.
Человек остается частью природы, он неотторжим от нее. Но теперь он понимает, что «заброшен» в мир в случайном месте и времени, осознает свою беспомощность, ограниченность своего существования. Над ним тяготеет своего рода проклятье; человек никогда не освободится от этого противоречия, не укроется от собственных мыслей и чувств, которые пронизывают все его существо. Человек – это единственное животное, отмечал Э. Фромм, для которого собственное существование является проблемой: от нее нельзя никуда уйти, он ее должен решить.
Человек – это существо, которое не имеет своей биосферной экологической ниши, и в этом состоит противоречие его бытия. Все, что есть в человеке, как бы отрицает самое себя. Человек принадлежит природе и в то же время отторгнут от нее. Он наделен инстинктами, но они не выполняют роль безотказных стимуляторов поведения. Человек властвует над природой и в то же время оказывается ее «дезертиром». Он обладает фиксированными признаками, но они двусмысленны, поскольку ускользают от окончательных определений. Человек имеет трагическое представление о способах своего существования и в то же время заново в каждом индивиде, т. е. в себе самом, открывает эту истину…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: