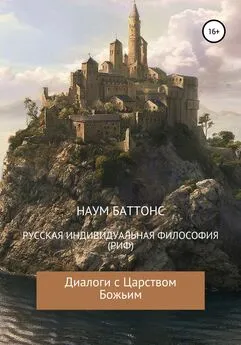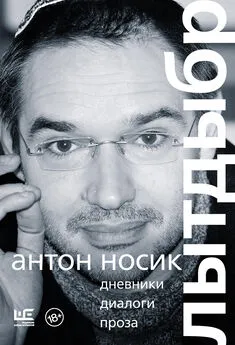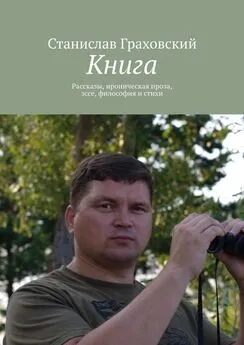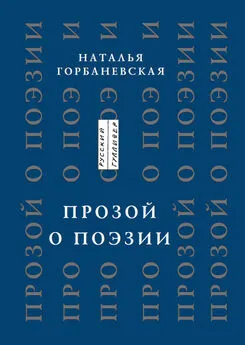Наталья Пращерук - Проза И. А. Бунина. Философия, поэтика, диалоги
- Название:Проза И. А. Бунина. Философия, поэтика, диалоги
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-398-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Пращерук - Проза И. А. Бунина. Философия, поэтика, диалоги краткое содержание
Книга предназначена для научного гуманитарного сообщества и для всех, интересующихся творчеством И. А. Бунина и русской литературой.
Проза И. А. Бунина. Философия, поэтика, диалоги - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Бесспорно, что Бунину, в отличие от Горького и Андреева, испытавших особенно сильное влияние ницшевского варианта философии жизни, более близки идеи той линии, которая представлена именами А. Бергсона (концепция интуитивного постижения жизни, разработка проблемы времени), В. Дильтея (герменевтическая направленность, обращенность к сфере исторического опыта, духовной культуры), отчасти С. Кьеркегора (тема широты сознания как формы экзистенции, отношение к смерти как к конститутивному элементу самой жизни – сравните его высказывание: «Мышление к смерти уплотняет, концентрирует жизнь»). Эта линия затем блестяще продолжена европейской и русской философией XX в. Книга обнаруживает «ситуации встречи» Бунина и Гуссерля, Хайдеггера, Флоренского, Н. Лосского с его работой «Обоснование интуитивизма», Н. Бердяева, Г. Шпета и др. Другими словами, Бунин-художник осваивает не только религиозно-философские традиции прошлого, но и очень чуток к современному пониманию человека и мира [7] См.: Пращерук Н. В . Художественный мир прозы И. А. Бунина: язык пространства. Екатеринбург, 1999. С. 86–89.
.
Говоря о широте и объемности задействованного им опыта других и опыта прошлого, мы должны учитывать и особый способ освоения этого опыта, а именно, артистический. Этот способ помогает Бунину, например, в «Тени птицы» при такой плотности введенного в текст книги «чужого» содержания сохранить легкость и свободу, особую органику повествования и описаний, избежать перегруженности сведениями и фактами из истории и мифологии или цитатами. Сознательная ориентация писателя на «чужое слово» выбирает форму изящной непреднамеренности, счастливой «случайности» невзначай явившегося откровения. Такой эффект как раз и достигается благодаря редкому артистизму художника, способности, которой он был наделен в большей степени, чем кто-либо другой (в этом он, пожалуй, сродни только Пушкину), чувствовать и понимать «чужое» как «свое»: «думаю я словами Корана»; «вспоминаю я восклицание Давида» и т. п. Г. Кузнецова приводит в своем дневнике такое очень характерное для Бунина признание: «Я ведь чуть побывал, нюхнул – сейчас дух страны, народа – почуял. Вот я взглянул на Бессарабию – вот и “Песня о гоце”. Вот и там все правильно, и слова, и тон, и лад» [8] Кузнецова Г. Н. Грасский дневник. Рассказы. Оливковый сад. М., 1995. С. 205–206.
. Способность к перевоплощению рождает в тексте феномен «расширяющегося» сознания: повествователь, не утрачивая личностной определенности, удивительно пластичен по отношению к различным культурам и религиям, он органично ощущает себя в роли эллина и мусульманина, ветхозаветного человека и христианина. (Чуть позднее Бунин откроет для себя и буддизм.)
В «Тени птицы» есть поразительные страницы, свидетельствующие о возможностях индивидуального человеческого сознания в «проживании» и возвращении настоящему прошлого всего человечества. Авторская интенция вполне очевидна: небытию противостоит реальность вечно пребывающего и каждый ряд воссоздаваемого заново пространства культуры. «Вот я стою и касаюсь камней, может быть, самых древних из тех, что вытесали люди! С тех пор, как их клали в такое же знойное утро, как и нынче, тысячи раз изменялось лицо земли. Только через двадцать веков после этого родился Моисей. Через сорок – пришел из берегов Тивериадского моря Иисус. <���…> Но исчезают века, тысячелетия, – и вот братски соединяется моя рука с сизой рукой аравийского пленника, клавшего эти камни» (3, 355). Это один из многих примеров конкретно обозначенной и художественно запечатленной ситуации именно «артистического» «выхода из истории», приобщения к бесконечности. Возвращение прошлого «вечному настоящему» сопряжено с «умножением» и собственной жизни героя «на много тысяч лет».
Благодаря артистическому вживанию в прошедшее, оно (прошедшее) не восстанавливается из последовательно добавляемых один к другому эпизодов, а «является», возвращается как бы отдельными воплощениями, обязательно при условии сопряжения с личным экзистенциальным опытом повествователя и в его «живом присутствии». По существу, весь текст «Тени птицы» есть серия «явлений» и «возвращений», блистательно завершенная в финальном рассказе образом «возвращения» Христа: «Тишина, солнце, блеск воды. Сухо, жарко, радостно. И вот Он, с раскрытой головою в белой одежде, идет по берегу мимо таких же рыбаков, как наши гребцы <���…> Симон и Петр, “оставив лодку и отца своего, тотчас последовали за Ним”» (3, 410). Артистический дар Бунина органично дополняется и даром живописания. М. Мамардашвили называл это качество стиля, правда, применительно к Марселю Прусту, «пластическим выплескиванием фундаментальных вещей» [9] Мамардашвили М. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). М. 1995. С. 123.
.
Между тем формула М. Мамардашвили может быть обращена не только к природе стиля Бунина, она непосредственно связана с принципом развертывания его художественных миров, ибо «пластическое выплескивание фундаментальных вещей» – это, другими словами, и есть «являющиеся сущности» – феномены в их неклассическом понимании, то есть «себя-в себе самом-показывающие» (Хайдеггер). Бунин одним из первых художников и очень лично ощутил недостаточность представлений о противопоставленности субъекта и мира, гениально угадал поворот в культурном сознании XX в., который связан с преодолением многих аксиом классической философии. Мир и человек для него образуют единство (das Eins по Хайдеггеру), субъект и объект неразрывны. Уже в конце века он формулирует в одном из писем свое «феноменологическое кредо»: «Мир – зеркало, отражающее то, что смотрит в него» [10] Цит. по: Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870–1953. Франкфурт-на-Майне; М., 1994. С. 112.
, а в ранних рассказах «примеряет» позицию отношения к жизни как к «сознанию, пущенному в материю» [11] Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. XIX век. М., 1995. С. 339.
. Природный и материальный мир для Бунина непосредственно являет смысл и «прозрачен» для духовного/ символического содержания. Такое мироощущение «питает» многие образы-впечатления повествователя и героев в произведениях 1890–1900-х гг.: «…думаю о чем-то неясном, что сливается с дрожащим сумраком вагона и незаметно убаюкивает» (2, 223); «И в запахе росистых трав, и в одиноком звоне колокольчика, в звездах и в небе было уже новое чувство – томящее, непонятное, говорящее о какой-то невознаградимой потере» (2, 243); «Я кого-то любила, и любовь моя была во всем: в холоде и в аромате утра, в свежести зеленого сада, в этой утренней звезде» (2, 266).
Однако бунинский феноменологизм ранних прозаических вещей еще нуждается в кристаллизации, стилевой оформленности, он «живет» в тексте пока на уровне мотива, догадки, спонтанных интуитивных вспышек. Можно сказать, что именно цикл «Тень птицы» стал для Бунина художественно воплощенным «феноменологическим» самоопределением. Бунин использует мотив яркого , последовательно проводя его через весь текст и сообщая ему функцию образной и смысловой доминанты. Яркость – знак соединенности «я» и «не-я», поскольку связан как с «качеством» окружающей реальности, так и со спецификой ее восприятия, отношения к ней. Видеть мир во всей яркости его проявлений – значит быть «настроенным» на него, открытым ему и не «обремененным» грузом предшествующих, «опосредующих», стирающих свежесть восприятия впечатлений: «яркой бирюзой сквозит вода»; «ярко зеленеют деревья» (3, 325); «яркая густая синева неба» (3, 326); «яркая лента неба льется» (3, 337); «было ярко» (3, 342); «яркая синь утреннего неба» (3, 346); «белые яркие стены» (3, 346); «ярко-зеленое дерево» (3, 353); «пирамида <���…> восходит до ярких небес» (3, 355); «пустыня <���…> ярко подчеркивает сине-лиловое небо» (3, 355); «…небо над базаром ярче» (3, 360); «яркое небо» (3, 370); «ярко-пунцовая герань»; «… глянул Джебель-Кемэзэ весь в ярких серебряных лентах» (3, 398); «изумительно-яркое поле неба» (3, 399); «ярко млела синь неба» (3, 405). Подобную функцию выполняет в «Суходоле» мотив темного , также соединивший в себе «качество» жизни суходольцев, образ их мира и состояние души и духа, при котором «сны порою сильнее всякой яви». Феноменологический дар Бунин-художника с максимальной полнотой проявился и в его главной книге – «Жизнь Арсеньева». Именно там, в одном из эпизодов, когда Арсеньев и Лика ведут разговор о поэзии Фета, Бунин словами своего героя очень четко и определенно формулирует свою позицию: «Нет никакой отдельной от нас природы, <���…> каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни» (6, 214). В соответствии с этой установкой и созидается в книге пространство жизни Алексея Арсеньева, в котором преодолевается власть исторического времени, прошлое переживается как всегда пребывающее с нами настоящее, а напряженная телесность, предметность, вещественность жизненного мира персонажей прорастает символическими смыслами. Конкретность проживаемых здесь и сейчас эпизодов прошедшего, явленных даром живописания Бунина и организованных им по принципу «рядоположенности картин», соседствует с разветвленной системой образов, с помощью которых создается сложный мифопоэтический подтекст книги.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
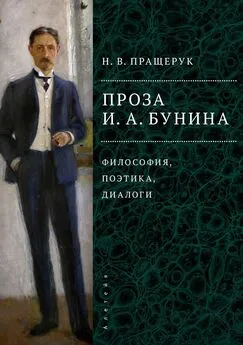


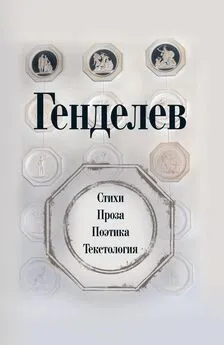
![Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]](/books/1058203/viktoriya-mochalova-lytdybr-dnevniki-dialogi-proz.webp)