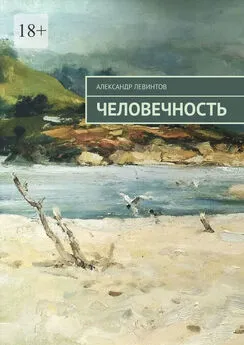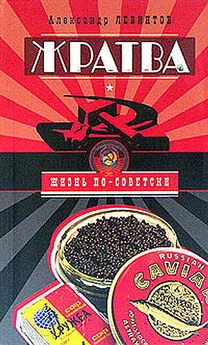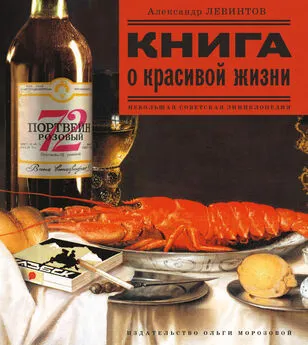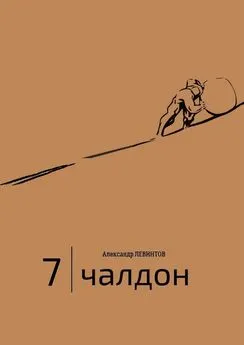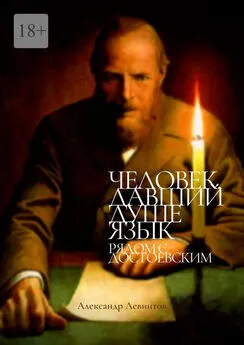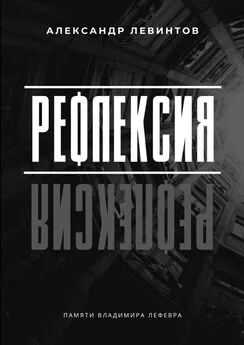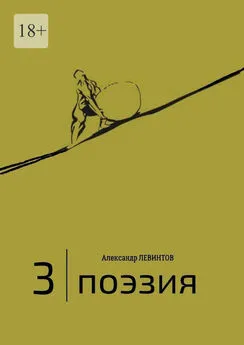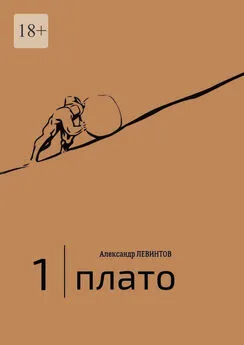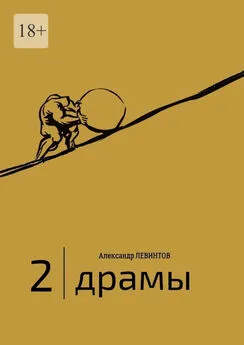Александр Левинтов - Человечность
- Название:Человечность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005097385
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Левинтов - Человечность краткое содержание
Человечность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эта кривая легко проектируется на «герменевтический круг» Шляйермахера: понятые фрагменты соответствуют всплескам ага-понимания, понимаемые – пологим участкам кривой. Естественно, что у каждого – своя непредсказуемая частота всплесков, свои понятые реперы в этом круге.
Необходимо заметить, что всплески ага-понимания возникают в состоянии циз-транса (понятие, введенное А. Сосландом): не запредельным отлетом в трансцедентальное, а контролируемым со стороны разума и рациональности инобытием, рефлексивно позволяющим удерживать не только состояние транса, но и понимать, за счет каких средств этот циз-транс («то тут-то там транс») возникает и держится.
Достижение и пребывание в циз-трансе возможно в весьма ограниченном наборе деятельностей: в музыке и поэзии (более общо – в искусстве и творчестве), в безумии и состояниях искусственного безумия (алкоголь, наркотики и т.п.), при восхождении в абстрактное в «надразумное» пространство, за пределы обыденно разумного (математика, теоретическая физика и т.п.).
В этих возвышенных циз-трансах недопустимо долгое зависание – можно ведь и не вернуться. Фиксации этих озарений не всегда возможны – и тогда остается лишь эйфория.
Практический вывод: в коммуникации необходима фиксация прежде всего непонимаемого – оно является ресурсом разворачивания коммуникации, а, следовательно, и ресурсом мышления.
Литература
1 . Левинтов А. Е. От рыка к речи (штрихи к теории антропогенеза). www.redshift.com/~alevintovиюнь, 2008.
2. Левинтов А. Е. Реальность и действительность истории. – М., «Аграф». 2006. – 384 с.
3. Лефевр В. А. Рефлексия.– М., «Когито-Центр», 2003. – 496с.
Май 2009, МоскваОтчего заговорили вещи
Для одних мир сотворен, уже сотворен и осталось только ждать конца света, Страшного Суда и окончательного решения судеб мира сего. Свет был включен – и перед уходом должен быть выключен.
Онтология этих людей предметна – мир загроможден ничего не говорящими предметами, прекрасными или ужасными, но не раскрывающими себя, своей сущности.
И самому себе человек непознаваем, а чужая душа и вовсе потёмки, неисповедимы пути Господни – и вообще мир создан и теперь кувыркается в метаморфозах, не имея ничего нового.
Но есть и вещие люди – те, кто своими вопрошаниями к предметам будят их и заставляют вещать, превращаться в вещи, в реальности (ρὲα по-гречески – «вещь») и общую, онтологическую реальность.
Предметы начинают говорить, вещать по устройству мира, который всегда только открывается, творится, создается – это дарит надежду встречи человека с Богом. Он открывается только тому, кто хочет войти в него.
Вещи, в отличие от предметов, существуют только в онтологическом презенсе, в естии=истине и в этом смысле не имеют ни истории, ни будущего. Особенность этого презенса заключается в том, что он всегда несовершенного вида, он всегда – путь, а не стоячее утверждение истины.
Для греков их боги были осколками и фрагментами истины, которые могли являться людям, неся и совершенство истинности и ущербность своей осколочности и фрагментарности.
Богам позволено любить людей, помогать им, наказывать их, всё, что угодно, но запрещено убивать людей – мир может оказаться из-за этого недооткрытым.
Из всех возможных вопросов:
– почему
– зачем
– и отчего
говорят вещи?
осмысленен и уместен только последний, потому что они говорят не по причине или по какому-либо закону (не почему) и не по цели, бесцельно, ни зачем.
«Спрашивать о причине вещей – то же, что искать начало бесконечного» (Демокрит). Причинность (поиски ответа на вопрос «почему») не просто бесконечна, она еще и создает петли, в которых причины оказываются следствиями и наоборот.
Что касается целесообразности (ответы на вопрос «зачем»), то следует признать: даже вещи, созданные человеком – ни зачем. Например, все созданное не производством, а творчеством – ни зачем. Как и творение мира Богом.
Тут, возможно, совсем другая связь.
«Отчего?» – это взывание к более глубинным причинам, к первоосновам, подспудным смыслам и неявным связям. И одновременно «отчего?» – поэтическая форма взывания, более душевная, нерациональная и нерационалистическая. «Отчего?» – онтологический вопрос, вопрос не из логики и не требующий логического отклика, отзыва, ответа. Более того, «отчего?» обычно и не требует ответа, но призывает к примолканию, к феноменологическому эпохэ.
«Отчего заговорили вещи» можно считать не вопросом, а некоторой констатацией, репликой, возникшей не в диалоге, а в ходе одинокого размышления о природе мира и конгруэнтного ему человека, или правильнее – о природе человека и конгруэнтного ему мира.
Февраль 2012, МоскваВетхий и Новый Завет
Как стать человеком?
Тот, кого мы привыкли называть Адамом, отошел вглубь пещеры, занимаемой стаей троглодитов, таких же троглодитов, как и тот, кого мы привыкли называть Адамом.
Звериное чутье подвело его, и он провалился по узкому и покатому желобу в пещерный грот, расположенный на десяток метров ниже. За пределами пещеры стояла зима, лютая и морозная, зима непроходящего оледенения, а потому ничто в пещере не журчало и не капало, скованное сезонным безводьем.
В пещере стояла абсолютная темнота, идеальная темнота, к которой никогда не привыкнет глаз.
И полная тишина.
Любое движение, тем более резкое – и либо наткнешься на смертельно острый осколок, либо улетишь в нижележайшие тартары, откуда уж точно выбраться будет невозможно.
И тот, кого мы привыкли называть Адамом, сообразил, что в наставшей пустоте лучше не суетиться, что необходимо прекратить всякие действия и всякие мысли, связанные с действиями.
Он потерял всякую мобильность.
И эта потеря мобильности оказалась спасительной.
Когда затихает суматоха мыслей о спасении, наступает, наконец, успокоение, дыхание выравнивается и становится единственным свидетельством собственной жизни. Еще непроснувшийся в том, кого мы привыкли называть Адамом, король рефлексии Рене Декарт говорит себе: «Я дышу, следовательно…».
И эта инструментальная, логическая мысль порождает следующую, полную онтологичности и надежды: «Я отделяю себя от окружающего меня праха своим дыханием, значит, я могу этим дыханием оживить прах окружающего мира, потому что я отделен от него своим дыханием».
Всякая онтология – сплошная тавтология, а потому переход от праха к дыханию и от дыхания к праху может быть безнадежно бесконечным.
Но человек дышит не столько воздухом, сколько надеждой.
И тот, кого мы привыкли называть Адамом, уже не зверь троглодитствующий, а человек, потому что живет надеждой, живет ожиданием чуда спасения. Он терпеливо ждет, замерев сердцем и затаившись в ненапряженном покое, так похожем на обреченность как на обрученность с судьбой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: