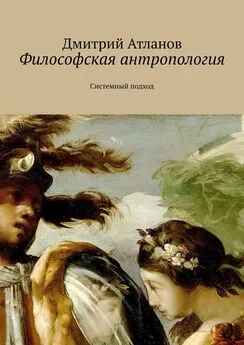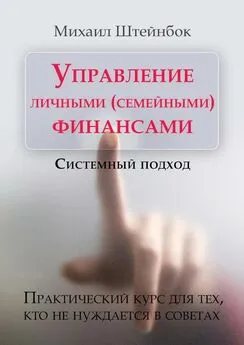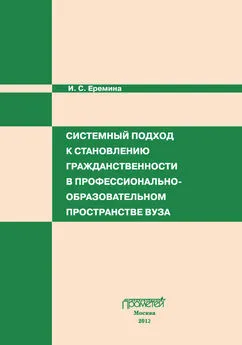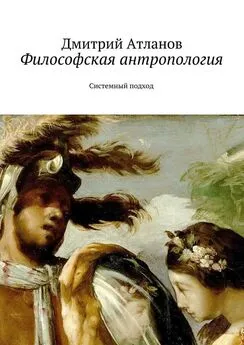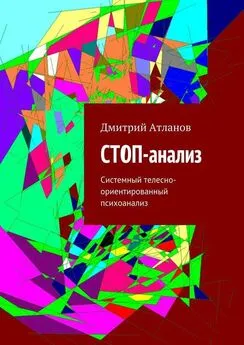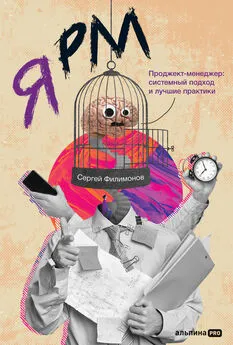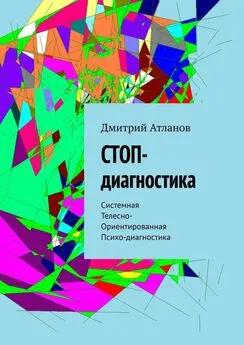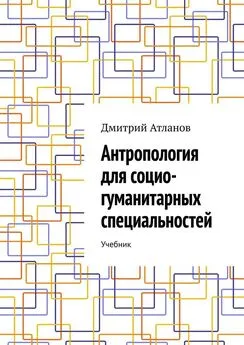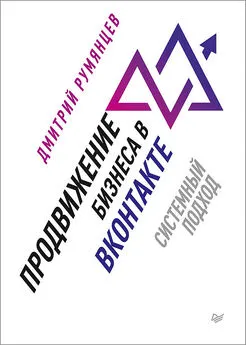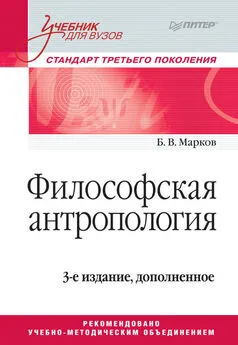Дмитрий Атланов - Философская антропология. Системный подход
- Название:Философская антропология. Системный подход
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785447413392
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Атланов - Философская антропология. Системный подход краткое содержание
Философская антропология. Системный подход - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В своих спорах о природе человека, пытаясь свести природу человека к социально-этическим категориям, ранние китайские философы выделили три варианта ответа:
Природа человека подобна бурлящему потоку воды и не разделяется на добрую и недобрую (Гао-Цзы)
Если человек следует естественным влечениям чувств, то он добр. Если человек недобр, то в этом нет вины его природных качеств, (Мэн-цзы) следовательно, по природе человек добр. Человеколюбие, справедливость и ритуал от природы присущи человеку, только мы об этом не задумываемся
Человек по природе зол. «ритуал» и «чувство долга» созданные «совершенномудрыми» призваны к преодолению злой природы человека 64 64 Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т.1. – М.: Мысль, 1972, С.243—244.
.
Родовой китайский космос представлял собой органическое телесное, духовное и идеальное триединство человека, природы и первопредка-бога.
В самом деле, как справедливо указывает А. И. Кобзев, в сочетании «жэнь син» (природа человека) категория «син» чаще обозначает природные качества человека, а не просто каждой отдельной вещи. Кобзев уточняет: «За этим явлением стоит не терминологическая неразборчивость, а мировоззренческая установка, согласно которой человек мыслился одним (хотя и центральным) из „десяти тысяч [родов] вещей“ (вань у), образующих весь мир» 65 65 Кобзев А. И. Проблема природы человека в конфуцианстве (от Конфуция до Ван Янмина) // Проблема человека в традиционных китайских учениях. – М.: Наука. 1983, С.207.
. Хотя древние китайцы и не выделяли человека в качестве самодостаточного существа, все-таки центральное место отводили именно для него.
В природе человека китайские авторы различали два начала: внеморальный «жизненный процесс» (шэн) как таковой и способность к самосовершенствованию. По Малявину, «не интеллект, не ratio, но неколебимо-ровная, беспорывная «воля» (чжи), символизирующая одновременно внутренний самоконтроль и захватывающую устремленность жизненного потока, считалась в Китае конституирующим признаком человека 66 66 Малявин В. В. Человек в культуре раннеимператорского Китая. // Проблема человека в традиционных китайских учениях. – М.: Наука. 1963, С. 166—167.
. Для самореализации человек не должен дорожить самим собою. От него требовалось утвердить себя путем самоотречения (см. Дао де дзин, 13).
Именно последняя идея применительно к человеку как социальному существу и утвердилась в китайской философии после того, как конфуцианство стало ведущим мировоззрением, поддерживаемым государством. Конфуцианская традиция усилила мотив самоотречения. Сам человек для конфуцианцев выступал как человек семейный и социальный. Государство, семья, клан – явления однопорядковые. Конфуцианский принцип патернализма выдвигает идеал «сяо», сыновней почтительности. Человек всегда должен четко осознавать и играть отведенную ему роль.
Согласно «Луньюю», Конфуций сказал: «По своей природе [люди] близки друг другу; по своим привычкам [люди] далеки друг от друга» 67 67 Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. т.1, – М.:Мысль, 1973. С.171.
. Д. Мунро, специально исследовавший проблему человека в Древнем Китае, отметил, что Конфуций не случайно выдвинул идею природного равенства людей. Это необходимо было для утверждения идеи социального порядка. В основе данной идеи лежали три принципа: господство ролевой структуры, строгая иерархия, формализованный кодекс-регулятор взаимоотношений. Если первые два принципа Конфуций почерпнул из традиции, то третий – его собственное добавление. Благодаря третьему принципу, который в Европе называли «китайские церемонии», удалось укрепить общество, сделать его устойчивым к внешним влияниям.
Для того, чтобы реализовать себя в таком обществе, необходимо обучение. Значимость самих знаний для конфуцианцев прежде всего социальная. Конфуцианский человек отрешается от натурального плана и полностью стремится реализовать себя в социальном плане. Даже этика, разработанная конфуцианцами, призвана решать социально-политические вопросы.
Индоарийская антропология
Индоарийский же вариант преодоления мифологического мышления имеет своей особенностью то, что трансцендентное Первоначало, фиксированное уже в Ригведе (РВ.10.129.), выступает, в отличие от ветхозаветного Яхве (Я есмь Сущий (Иегова) (Исход, 3, 13—14)), как Сущее и не-Сущее одновременно. Иными словами Первоначало индоарийцев не является богом, как активным принципом. И не претендует ни на какое вмешательство в проявленный, феноменальный мир. Это Первоначало (Брахман) не претендует на всезнание, руководство, включенность в иерархию. Брахман индоариев знаменует собой иной, сверхреальный, сверхчувственный мир, который в принципе не проявляет себя на феноменальном уровне. Строго говоря, все боги древней Индии принадлежат миру явленному, реальности, с которой можно считаться и взаимодействовать, миру, из которого человек не выделился, не противостал ему (сравни роли Пуруши и Адама – если Адам сотворен Богом из ранее сотворенного мира, глины, то Пуруша, напротив, является основой мира, из его тела творится мир).
Йога вместе с санкхьей обыкновенно упоминается в составе шести даршан – древнейших философских школ Индии. Но, кроме того, надо отметить, что в «Махабхарате» – индийском эпосе, складывавшемся примерно в ту эпоху, когда Веды уже записывались, йога упоминается не как учение, а как практика, деятельность, техника 68 68 Махабхарата. Кн. 3. Араньякапарва (Лесная) – М., Наука, 1987.
Таким образом, можно предположить, что эта техника была общим моментом в любой деятельности, связанной с «дхьяной», вне зависимости от содержательного наполнения того или другого учения. Это еще один штрих, характеризующий всепроницающую силу мистицизма в индийской традиции. Практически все основные философские школы, сформировавшиеся в русле этой традиции, единодушны в понимании человека как единичного существа, судьба которого неразрывно связана с единым космическим ритмом. Соответственно и рассмотрение человека неотделимо от рассмотрения всего космоса. При этом важной особенностью раннеиндийской традиции рассмотрения человека был индивидуализм. Дж. Неру отмечает, что у отдельного человека «не было понятия об обществе в целом или о долге по отношению к обществу, и не делалось никаких попыток заставить его проникнуться чувством солидарности с обществом» 69 69 Джавахарлал Неру. Открытие Индии // Открытие Индии: Философские и эстетические воззрения в Индии ХХ века. М.:Художественная литература. 1987, С.73.
.
Именно индивидуальный жизненный путь становится предметом рассмотрения различных ранних философских школ Древней Индии. Действительно и в джайнизме и в буддизме, сформировавшемся на индийской почве, акцент делается исключительно на личном усилии и личной ответственности человека. Фокусом философии человека в Древней Индии являлось понятие «Я» (пуруша). Согласно Упанишадам, «из всех конечных объектов индивидуальное Я обладает высшей реальностью» 70 70 Радхакришнан С. Индийская философия. Т.1. – М.: Иностранная литература. 1956—1957, С.169—170.
. Что касается собственно философских школ, то налицо разнообразие мнений. Так, чарваки отождествляют Я то с телом, то с чувствами, то с жизнью, то с умом. Для буддистов Я – это поток сознания. Ньяя-вайшешика и прибхакара-миманса считают, что Я – лишенная сознания субстанция, но способная приобрести атрибут сознания. Последователи бхатта-миманса утверждают, что Я – обладающая сознанием сущность. Адвайта-ведантисты: Я – чистое сознание, средоточие блаженства. В системе санкхья Я толкуется как чистое сознание, в котором нет ни изменений, ни активности. Практически для всех школ существование Я самоочевидно, а его несуществование не может быть доказано.
Интервал:
Закладка: