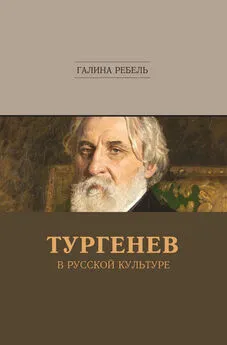Галина Ребель - Тургенев в русской культуре
- Название:Тургенев в русской культуре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4469-1356-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Галина Ребель - Тургенев в русской культуре краткое содержание
Тургенев в русской культуре - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– О чем же ты тогда размышляешь, Лукерья?
– Этого, барин, тоже никак нельзя сказать; не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было – не поймешь! Только думается мне: будь около меня люди – ничего бы этого не было, и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья».
Это почти дословно, почти в тех же выражениях – Тютчев! Только не «специальный», процитированный в эпиграфе, а – сокровенный, затаенный, «ночной»:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими – и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими – и молчи.
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью – и молчи!..
Услышь Лукерья эти строки, она, скорее всего и в подтверждение сказанного поэтом и ею самой, не узнала бы своих «таинственно-волшебных дум», тем более не поняла бы латинский императив «Silentium!», но говорит она именно об этом: о невозможности поймать, запечатлеть, выразить словом сокровенное, о летучей неуловимости мысли, о непреодолимости границ индивидуального сознания, о неизбежной чуждости другого , о неумолимой безысходности и горько-сладкой отраде одиночества. И даже форма ее высказывания – цепь вопросов с выводом-назиданием в конце – тютчевская: «…кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе человек помогай!» – «Как сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя? / Поймет ли он, чем ты живешь? / Мысль изреченная есть ложь. / Взрывая, возмутишь ключи, – / Питайся ими – и молчи».
То, о чем в одном из самых знаменитых, самых глубоких своих стихотворений говорил один из величайших русских поэтов, то, что станет зерном философии экзистенциализма и будет многосложно и многопланово разрабатываться в научных и художественных сочинениях двадцатого века, – как бы невзначай, к слову и в череде других слов, высказывает русская крестьянка. При этом тургеневская героиня ни на минуту, ни на йоту не выходит за пределы своего образа, своих «полномочий» и «компетенций», так что тютчевский «прототекст» не только не идентифицируется сходу, но наверняка и для самого Тургенева, прекрасно знавшего и очень любившего Тютчева, не был актуален в момент написания рассказа. Это совпадение. Из числа тех совпадений, которые обнажают, вскрывают сущности.
У Е. Баратынского есть замечательные строки о том, что самые замысловатые, торжественные истины – «плод науки долгих лет» – восходят к народным формулам-афоризмам и легко сворачиваются в них вновь:
Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем:
Какой же плод науки долгих лет?
Что наконец подсмотрят очи зорки?
Что наконец поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? точный смысл народной поговорки.
Тургенев в «Живых мощах» фиксирует именно тот таинственно-непредсказуемый, целомудренно-прикровенный момент, когда в полутьме заброшенного сарайчика посреди лесостепной России – в самой сердцевине народного бытия, в живой беседе двух случайно сошедшихся, очень разных и в то же время соединенных незримою неразрывной связью людей рождается выношенная личным опытом универсальная формула человеческого бытия.
В то же время эта сцена вызывает и другую ассоциацию, просится в другую параллель – с «последними» диалогами героев Достоевского. Однако у Достоевского участники диалогических встреч (в которых тоже, между прочим, как правило, доминирует один голос при вспомогательной роли второго) не только объективно даны как герои мировой мистерии, но и субъективно ощущают себя таковыми, нередко прямо формулируя вселенскую значимость происходящего: «Мы два существа, и сошлись в беспредельности… в последний раз в мире» [Д, 10, с. 195]. В рассказе Тургенева все очень сдержанно, просто, без котурнов, пафоса, патетики, без каких бы то ни было прямых апелляций к вечности и претензий на откровение-открытие, но по существу – это именно разговор в беспредельности и в последний раз в мире .
Слабый, шелестящий голос Лукерьи преодолевает неподвижную мертвенность заключающей его телесной оболочки, тесноту и узость окружающего физического пространства и вырывается из этого двойного плена на простор вольного, отрадного для сердца, распрямляющего и облегчающего душу человеческого общения, в свободный, никакими канонами и рамками не стиснутый прощальный полет – над миром, который Лукерья любит чуткой, благодарной, благословляющей любовью, и над собственной иссохшей плотью, в которую голосу этому вскоре суждено вернуться, чтобы замолкнуть уже навсегда. Но пока, преодолевая немощь, с трудом переводя дыхание, жадно устремившись навстречу вопрошающему вниманию собеседника, она вышептывает накопившиеся мысли и чувства, пересказывает сны, смеется, и даже поет, и вновь и вновь повторяет как-то особенно, необычно, призывно-доверительно и даже родственно звучащее в ее устах обращение «барин», за обыденной ритуальностью и социальным содержанием которого мерцает, накапливаясь и усугубляясь, какой-то важный дополнительный смысл.
По собственным словам героини, добрые люди ее «не оставляют»: девочка-сиротка захаживает, цветы приносит; священник наведывается; «девушки крестьянские зайдут, погуторят; странница забредет, станет про Иерусалим рассказывать, про Киев, про святые города»; по-видимому, навещают и родственники. Но никто из них не утоляет ее потребности излить душу, выплеснуть накопившееся, свободно, без опаски быть непонятой и прерванной на полуслове высказаться – исповедаться . Девочка мала, священник твердо придерживается «чина» и Лукерью остерегает от вольностей; девушки и странницы приходят не слушать, а «гуторить»; крестьяне удручены бедностью, заняты тяжким трудом, обременены заботами. Коллективное их мнение о Лукерье запечатлено в прозвище «Живые мощи» и в отзыве хуторского десятского, который, с одной стороны, выражает удовлетворение тем, что от больной «никакого не видать беспокойства», ни ропота, ни жалоб – «тихоня, как есть тихоня», а с другой стороны, опасливо дистанцируется от столь необычного, пугающего явления: «Богом убитая, – полагает он, – стало быть, за грехи; но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее – нет, мы ее не осуждаем. Пущай ее!».
Она-то считает, что грех от нее сам «отошел», – а люди думают: наказана за грехи. Она ведь тут чужая, возле господ жила, не крестьянским трудом, а услужением, бог весть, как жила, – «но мы в это не входим», «пущай ее»… Для доктора, который тоже приезжал сюда однажды, она всего лишь диковинный случай, предмет узкопрофессионального честолюбивого интереса: «Я его прошу: “Не тревожьте вы меня, Христа ради!” Куда! Переворачивать меня стал, руки, ноги разминал, разгинал; говорит: “Это я для учености делаю; на то я и служащий человек, ученый! И ты, говорит, не моги мне противиться, потому что мне за мои труды орден на шею дан, и я для вас же, дураков, стараюсь”. Потормошил, потормошил меня, назвал мне мою болезнь – мудрено таково, – да с тем и уехал. А у меня потом целую неделю все косточки ныли».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: