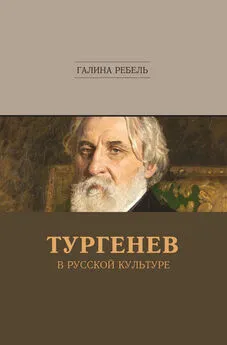Галина Ребель - Тургенев в русской культуре
- Название:Тургенев в русской культуре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4469-1356-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Галина Ребель - Тургенев в русской культуре краткое содержание
Тургенев в русской культуре - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вот отсюда, из этого опыта, из многолетнего не столько даже физического, сколько душевного одиночества и родилось понимание: «…кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет?». И тем не менее, сами эти слова адресованы другому , они и родились-то сейчас, в эту минуту, в присутствии другого , они к нему обращены и только в этой обращенности, адресности обретают форму и смысл.
«Барин, а барин! Петр Петрович!» – окликнула Лукерья вслепую заглянувшего в амшаник и уже было двинувшегося прочь охотника. Так началась эта встреча, этот разговор, для которого она, кажется, и жила, и лежала здесь, и ждала, – чтобы, высказавшись наконец без остатка, до того предела, за которым уже нету слов или не нужны слова, высказавшись-исповедавшись, облегчив душу от земного бремени и земных привязанностей, высвободить ее навсегда из увядшего, изнемогшего тела. И единственным, кто оказался способен дать ей эту возможность, кто не только слушал, но и слышал; кто деликатно поощрял и поддерживал исповедание, а не застопоривал его встречными замечаниями; кто смог вобрать, впитать в себя и сберечь обращенные к нему слова, – более того, единственным, кто, узнав, что в последний день жизни Лукерья слышала колокольный звон, исходивший не от церкви, а «сверху», понял, что «она не посмела сказать: с неба», и сказал это за нее, – этим единственным был тот, кого она звала, величала и даже ласкала словом барин .
Что позволило ему, совсем молодому человеку (ей в момент встречи не более тридцати, а он в пору ее цветущей молодости был шестнадцатилетним мальчиком), здоровому, сильному, беспечному скитальцу-охотнику, который не знает большего бедствия, чем нежданный-негаданный дождь, не просто мимоходом прикоснуться к настоящей, непреходящей беде, а – остановиться, замереть перед ней, открыть ей свое сердце, утолить чужую тоску по вниманию, пониманию, сочувствию? То и позволило, что подспудно содержится в привычно трактуемом как обозначение социального статуса слове «барин», – высочайший уровень культуры, раздвигающей не только интеллектуальные, но и жизненные горизонты, помогающей поверх, помимо личного опыта слушать и слышать, воспринимать и понимать другого . Иоанн Шаховской пишет о том, что «только религиозный или с подлинно художественной интуицией человек способен увидеть эту истину высшей человечности, как увидел ее Тургенев в лице многотерпеливой русской женщины» 35 35 Иоанн (Шаховской). Торжество человечности (тургеневский образ).
. Однако рассказчик в «Живых мощах», как и в «Записках охотника» в целом, дан не как художник и, конечно, не равен биографическому автору, при всей близости к нему, рассказчик – охотник и барин , и оба эти определения имеют не только узко специальный, но и расширительный, метафорический смысл.
Охота предстает здесь как вольница, как погружение в свободный, нерегламентированный естественно-природный мир, как череда новых встреч и новых лиц, как открытие и собирание историй и смыслов. В заключительном рассказе цикла, «Лес и степь», есть такие строки: «Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе, für sich, как говаривали в старину; но, положим, вы не родились охотником: вы все-таки любите природу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату…» В автографах после слов «вы все-таки любите природу» стояло: «и свободу» [ТС, 4, с. 457].
А «барство» здесь оказывается не только социальным статусом, но и особым состоянием духа и души, которое легитимизирует и приумножает даруемое охотничьим времяпрепровождением чувство свободы, поощряет и развивает вменяемость, адекватность взаимодействия с миром. К тому же барин всегда «старший», «ответственный» – не по возрасту, а по положению; «батюшка», «отец родной» – так часто обращались к барину мужики 36 36 См., например, рассказ «Бурмистр», хотя здесь слово «барин» – прямо противоположного данному в «Живых мощах» этического и культурного наполнения.
. Лукерья апеллирует к барину именно в этих – высоких, «благородных» смыслах слова.
Социальное в «Записках охотника» традиционно прочитывается (и действительно чаще всего подается в самом произведении) как более или менее антагонистическое противостояние помещиков и крестьян, но оно отнюдь не сводимо к этой очевидной, лежащей на поверхности оппозиции, ибо одно из главных действующих лиц «Записок» – охотник – олицетворяет собою не водораздел, а связующее звено, не границу, а буфер. Он охотник за неуловимой ничем, кроме художества, «дичью» – текучей плотью и мерцающими смыслами бытия, странник по своему душевному складу и по возложенному на него сюжетному заданию, и – рассказчик, данный в непрерывном движении от одной истории-ситуации к другой, на пересечении человеческих судеб-миров, которые благодаря ему в совокупности своей складываются в объемную, многоплановую, многоликую и многокрасочную картину национальной жизни, представляющую единый – при всей своей пестроте, сложности и разнообразии – национальный мир. Рассказчик являет собою одновременно причастность и дистанцированность, доброжелательность и непримиримость, пристальность, скрупулезность, дотошность и – артистизм, непоказной, неброский, но несомненный и неизменный артистизм в отношении к жизни. Какой бы обыденно-непритязательной эта жизнь ни была, в восприятии и при участии Рассказчика самые заурядные картины обретают поэтическую притягательность и глубину.
«“Записки охотника” – поэзия, а не политика» 37 37 Зайцев Б. Далекое. М.: СП, 1991. С. 183.
, – писал Зайцев. «Записки охотника» – «любовная книга» 38 38 Гершензон М. Мечта и мысль И. С. Тургенева. М.: Т-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. С. 68.
, считал Гершензон.
«Записки охотника» – книга о любви. Любовью к природе, к России, к русским людям, как мягким, ласкающим солнечным светом, залиты ее страницы. Уже современники почувствовали, что «Записки охотника» – это своеобразный «анти-Гоголь»: живые души . Другие современники и потомки, особенно советские, усиленно педалировали социальный смысл книги – и он в ней, несомненно, есть, и он очень важен. Здесь есть горечь, печаль, гнев, есть неприязнь и презрение к тем, кто мутит источники жизни, нарушает гармонию бытия. Разумеется, чаще всего это помещики: кому больше дано, с того и спрос. Но и тургеневские крестьяне – из живой жизни, а не с лубочных картинок и не из умозрительных представлений. Социальное здесь дано в естественной пропорции с экзистенциальным в очень корректном эстетическом освещении и соотношении.
Русская проза начиналась с назидательно-сентиментального: «И крестьянки любить умеют». В знаменитой карамзинской формуле, при несомненном ее гуманизме, ощущается специальное усилие, направленное на подавление предубеждения: и крестьянки … Следующий шаг сделал А. С. Пушкин, который обогатил воспитанную на французских романах дворянскую барышню Татьяну Ларину народным мироощущением, тем самым придав ее характеру и личности значительность и глубину, и в конечном счете выстроил ее судьбу по народному (няниному, материнскому), а не по «французскому» образцу. Он же шутливо, но отнюдь не шутя обыграл тему социального мира и гармонии в «Барышне-крестьянке», где каждый органично и естественно смотрится на своем месте, а нарушение социальной границы приводит к взаимообогащению, но необходимость границы не только не оспаривается, но подтверждается, эстетически легитимизируется.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: