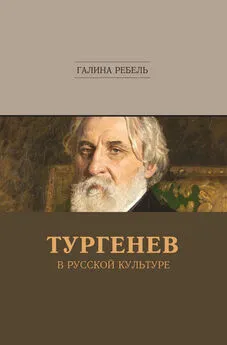Галина Ребель - Тургенев в русской культуре
- Название:Тургенев в русской культуре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4469-1356-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Галина Ребель - Тургенев в русской культуре краткое содержание
Тургенев в русской культуре - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ведь то, что в барышне Татьяне Лариной было проявлением своеобразия характера, в дочери барской горничной Асе являлось следствием драматизма судьбы.
Татьяна, «русская душою», горячо любившая свою няню-крестьянку и верившая преданьям простонародной старины, занимала при этом прочное и стабильное положение барышни-дворянки. Совмещение в ней народного и элитарного начал было явлением эстетического, этического порядка. А для Аси, незаконнорожденной дочери дворянина и горничной Татьяны, это изначальное, природное слияние в ней двух полюсов национального социума обернулось психологической драмой и серьезной социальной проблемой, что и вынудило Гагина хотя бы на время увезти ее из России.
Барышня-крестьянка не по собственной игривой прихоти, как безмятежно-благополучная героиня одной из «Повестей Белкина», не по эстетическому влечению и этическим пристрастиям, как Татьяна Ларина, а по самому своему происхождению, Ася очень рано сознает и болезненно переживает «свое ложное положение». «Она хотела быть не хуже других барышень» – то есть стремилась как к невозможному к тому, от чего отталкивалась, как от своего исходного, но неудовлетворительного status quo, пушкинская Татьяна.
Странность пушкинской героини носит индивидуальный характер и в немалой степени является результатом личного выбора, осознанной жизненной стратегии. Эта странность, разумеется, осложняла Татьяне жизнь, выделяя ее из окружения, а порой и противопоставляя ему, но в конце концов обеспечила ей особое, подчеркнуто значимое общественное положение, которым она, между прочим, гордится и дорожит.
Странность Аси – следствие незаконнорожденности и вытекающей из него двусмысленности социального положения, результат психологического слома, который она пережила, узнав тайну своего рождения: «Она хотела <���…> заставить целый мир забыть ее происхождение; она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею». В отличие от Татьяны, своеобразие которой черпало опору во французских романах и не подвергалось сомнению в его эстетической и социальной значимости, Ася, с одной стороны, «никак не хотела подойти под общий уровень», а с другой стороны, тяготилась своей странностью и даже оправдывалась перед Н. Н.: «Если я такая странная, я, право, не виновата…»
Как и Татьяне, Асе не присуще общепринятое, типическое, но Татьяна сознательно пренебрегала традиционными для барышни занятиями («Ее изнеженные пальцы не знали игл; склоняясь на пяльцы, узором шелковым она не оживляла полотна»), а Асю сокрушает ее изначальная вынужденная отлученность от дворянского стандарта: «Меня перевоспитать надо, я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я даже шью плохо».
Как и Татьяна, Ася с детства предавалась одиноким размышлениям. Но Татьянина задумчивость «теченье сельского досуга мечтами украшала ей»; Ася же мысленно устремлялась не в романтические дали, а к разрешению мучительных вопросов: «…Отчего это никто не может знать, что с ним будет; а иногда и видишь беду – да спастись нельзя; и отчего никогда нельзя сказать всей правды?..»
Как и Татьяна, которая в «семье своей родной казалась девочкой чужой», Ася ни в ком не находила понимания и сочувствия («молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила») и поэтому, опять-таки так же, как пушкинская героиня, она «бросилась на книги».
Здесь сходство подчеркивает различие, а различие, в свою очередь, усиливает сходство. Тургенев дает прозаическую, реалистическую проекцию начертанного Пушкиным поэтического, романтического образа, он переводит в социально-психологический план то, что у Пушкина подано с позиций этико-эстетических, и обнажает внутренний драматизм, противоречивость явления, которое у Пушкина предстает как цельное и даже величавое. Но при этом Тургенев не опровергает пушкинский идеал, – напротив, он испытывает этот идеал реальностью, «социализирует», «заземляет» и, в конечном счете, подтверждает его, так как Ася является одной из самых достойных и убедительных представительниц «гнезда» Татьяны – то есть той типологической линии русской литературы, начало, основание и сущность которой были заложены и предопределены образом пушкинской героини.
Правда, Ася, в отличие от юной Татьяны, не нашла еще своей естественной позы, своего стиля, той органичной для нее манеры поведения, которая соответствовала бы ее сущности. Чуткий, наблюдательный и не терпящий фальши герой «с неприязненным чувством» отмечает «что-то напряженное, не совсем естественное» в ее повадках. Любуясь «легкостью и ловкостью», с какими она карабкается по развалинам, он в то же время досадует на демонстративность предъявления этих качеств, на показательность романтической позы, в какой она сидит на высоком уступе, расчетливо красиво вырисовываясь на фоне ясного неба. В выражении ее лица он читает: «Вы находите мое поведение неприличным, <���…> все равно: я знаю, вы мной любуетесь».
Она то хохочет и шалит, то разыгрывает роль «приличной и благовоспитанной» барышни – в общем, чудит , является герою «полузагадочным существом», а на самом деле просто ищет, пробует, пытается понять и выразить себя. Только узнав Асину историю, Н. Н. начинает понимать причину этих чудачеств: «тайный гнет давил ее постоянно, тревожно путалось и билось неопытное самолюбие».
Лишь в одном из своих обличий выглядит она совершенно естественно и органично: «ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли» не было в ней, когда, словно угадав тоску героя по России, она предстала перед ним «совершенно русской девушкой <���…>, чуть не горничной», которая в стареньком платьице с зачесанными за уши волосами «сидела, не шевелясь, у окна да шила в пяльцах, скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась».
Чем пристальнее Н. Н. вглядывается в Асю, чем менее дичится его она, тем явственнее проступают в ней другие Татьянины черты. И внешние: «бледная, молчаливая, с потупленными глазами», «печальная и озабоченная» – так сказывается на ней ее первая любовь. И, главное, внутренние: бескомпромиссная цельность («все существо ее стремилось к правде»); готовность «к трудному подвигу»; наконец, сознательная, открытая апелляция к Татьяниному (то есть книжному, идеальному) опыту – слегка перефразируя пушкинский текст, она цитирует слова Татьяны и одновременно говорит ими о себе: «где нынче крест и тень ветвей над бедной матерью моей!» (заметим кстати, что ее «гордая и неприступная» мать вполне заслуженно, а не только ради создания соответствующей ауры вокруг дочери носит освященное Пушкиным имя).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: