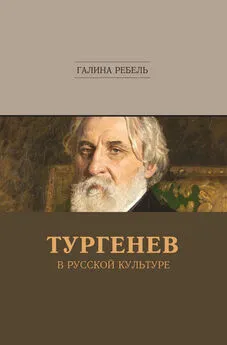Галина Ребель - Тургенев в русской культуре
- Название:Тургенев в русской культуре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4469-1356-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Галина Ребель - Тургенев в русской культуре краткое содержание
Тургенев в русской культуре - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Возвращаясь от Гагиных после безмятежно проведенного с ними дня, Н. Н., как обычно, спускается к переправе, но, на сей раз, вопреки обыкновению, «въехавши на середину Рейна», просит перевозчика «пустить лодку вниз по течению». Не случайный, символический характер этой просьбы подтверждается и закрепляется следующей фразой: «Старик поднял весла – и река понесла нас». На душе у героя неспокойно, как неспокойно в небе («испещренное звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось»), как неспокойно в водах Рейна: «и там, в этой темной, холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звезды».
Трепет и томление окружающего мира – словно отражение его собственного душевного смятения и, вместе с тем, катализатор, стимулятор этого состояния: «тревожное ожидание мне чудилось повсюду – и тревога росла во мне самом». Вот тут-то и возникает неудержимая жажда счастья и, казалось бы, необходимость и возможность немедленного ее утоления, но эпизод завершается столь же знаменательно, как начинался и разворачивался: «лодка все неслась, и старик перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами»…
Между тургеневскими героями, в отличие от героев пушкинских, нет никаких объективных препятствий: ни окровавленной тени убитого на дуэли друга, ни обязательств по отношению к какому-либо третьему лицу («Я другому отдана…»).
Асино происхождение, которое держит ее в состоянии психологического дискомфорта и кажется неблагоприятным обстоятельством ее брату, для просвещенного, интеллигентного молодого человека, разумеется, никакого значения не имеет.
Н. Н. и Ася молоды, красивы, свободны, влюблены, достойны друг друга. Это настолько очевидно, что Гагин даже решается на весьма неловкое объяснение с приятелем о его намерениях относительно сестры. Счастье, о котором уже так много сказано, в данном случае не просто возможно, но едва ли не обязательно, оно само идет в руки. Но наши герои движутся к нему по-разному, разными темпами, разными путями. Он – по плавной, уходящей в невидимую даль горизонтали, отдавшись стихийному течению, наслаждаясь самим этим движением, не ставя себе цели и даже не думая о ней; она – по сокрушительной вертикали, как в пропасть с обрыва, чтобы или накрыть вожделенную цель, или разбиться вдребезги.
Если символом характера и судьбы героя выступает движение с поднятыми веслами по течению реки – то есть слиянность с общим потоком, доверительное полагание на волю случая, на объективное течение самой жизни, то символический для понимания Асиного характера эпизод – это момент, когда она сидит «на уступе стены, прямо над пропастью», то есть момент противоречия, противоборства, романтического вызова судьбе; развитие и углубление этот символ получит в разговоре Аси с Н. Н. о скале Лорелеи.
Хорошо понимающий свою сестру Гагин в трудном для него разговоре с Н. Н., затеянном в надежде на возможность счастливого разрешения Асиных душевных терзаний, в то же время невольно, но очень точно и необратимо противопоставляет Асю ее избраннику, да и самому себе:
«…Мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза».
Категорическая неспособность «подойти под общий уровень»; страстность натуры («у ней ни одно чувство не бывает вполовину»); тяготение к противоположным, предельным воплощениям женского начала (с одной стороны, ее влечет к себе гетевская «домовитая и степенная» Доротея, с другой – таинственная погубительница и жертва Лорелея); совмещение серьезности, даже трагедийности мироощущения с детскостью и простодушием (между рассуждениями о сказочной Лорелее и выражением готовности «пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг» вдруг возникает воспоминание о том, что «у фрау Луизе есть черный кот с желтыми глазами»); наконец, живость нрава, подвижность, изменчивость – все это составляет очевидный контраст тому, что свойственно Н. Н., что характерно для ее брата. Отсюда и страх Гагина: «Порох она настоящий. <���…> беда, если она кого полюбит!», и его растерянное недоумение: «Я иногда не знаю, как с ней быть»; и его предостережение самому себе и Н. Н.: «С огнем шутить нельзя…»
И наш герой, безотчетно любящий Асю, томящийся жаждой счастья, но не готовый, не спешащий эту любовную жажду утолить, вполне осознанно , очень трезво и даже по-деловому приобщается к хладнокровному благоразумию Асиного брата: «Мы с вами, благоразумные люди…» – так начинался этот разговор; «…Мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять», – так безнадежно для Аси он заканчивается. Это объединение ( мы, нам ) благоразумных, хладнокровных, рассудительных и положительных мужчин против девушки, которая – порох, огонь, пожар; это союз благонравных филистеров против неуправляемой и непредсказуемой стихии любви.
Тема филистерства (обывательской эгоистичной ограниченности) не лежит на поверхности рассказа и, на первый взгляд, акцентирование ее может показаться надуманным. Само слово «филистеры» звучит лишь однажды, в рассказе о студенческом празднике, на котором пирующие студенты ритуально бранят этих самых филистеров – трусливых блюстителей неизменного порядка, и больше оно ни разу в тексте повести не встречается, а по отношению к ее героям кажется вообще неприменимым.
Тонко чувствующий, чуткий, гуманный и благородный Н. Н. вроде бы никак не подходит под это определение. Чрезвычайно привлекательным и абсолютно не похожим на заскорузлого обывателя предстает перед читателем и Гагин. Его внешнее обаяние («Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо…») является отражением душевной грации, которая так располагает к нему Н. Н.: «Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая…»; «…Не полюбить его не было возможности: сердце так и влеклось к нему». Объясняется это расположение не только объективными достоинствами Гагина, но и несомненной душевной и личностной близостью его Н. Н., очевидным сходством между молодыми людьми.
Мы не видим главного героя повести со стороны, все, что мы знаем о нем, рассказывает и комментирует он сам, но, по совокупности всей информации, мы понимаем, что его, как и Гагина, тоже невозможно было не полюбить, что к нему тоже влеклись сердца, что он вполне заслужил высокую аттестацию своего самого беспощадного критика – Чернышевского: «Вот человек, сердце которого открыто всем высоким чувствам, честность которого непоколебима, мысль которого приняла в себя все, за что наш век называется веком благородных стремлений» 46 46 Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous. С. 58.
.
Интервал:
Закладка: